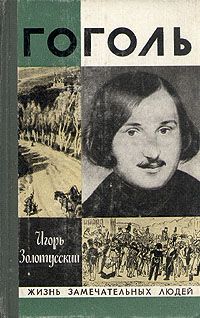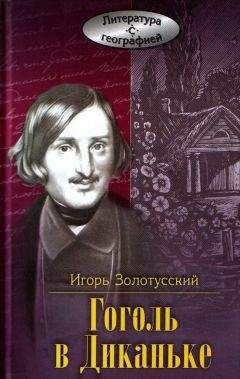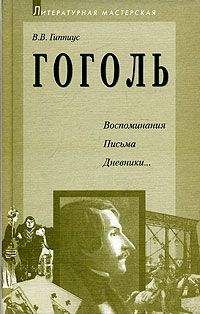Игорь Золотусский - Поэзия прозы
Последнее слово в поэме остается за мужиком. С оценки колеса Чичикова, которую дают стоящие напротив гостиницы мужики, начинаются «Мертвые души», криками Селифана «Эх! эх! эх!», понуждающими коней тройки, они заканчиваются.
«Эх! эх! эх!» Селифана перерастают в авторское «Эх! тройка, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал…», сливаются с ним и далее уже делаются нераздельны.
Не успело чичиковское колесо въехать в повествование, а герой поэмы показаться читателям, как уже является некий оценщик и судия, который судит и о колесе, и о самой цели путешествия. «Что ты думаешь, — говорит один мужик, — доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечает его собеседник. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» «В Казань не доедет», — соглашается другой мужик.
Что это за разговор? Зачем он? Не праздное ли это препровождение времени, тем более стоят мужики «у дверей кабака», а стало быть, говорят они о своем, вовсе не имея в виду Чичикова?
И все же вопрос, заданный ими, остается. Он сообщает поэме вопросительный характер. Колесо Чичикова, по мысли Гоголя, должно сломаться и должно куда-то не доехать. Казань и Москва — названия условные, хотя города эти, судя по топографии поэмы, расположены не так далеко от города N. Речь идет не о Казани и Москве, а о целях поездки Чичикова.
У Чичикова две цели: одна (ближняя) — сколотить капитал, другая (дальняя) — его потратить. Эта дальняя цель — «дом», «бабенка», «потомки», «отличные лошади», «хороший повар», одним словом, «жизнь во всех довольствах».
И этот «дорожный снаряд», в котором восседает Чичиков, Гоголь превращает в птицу-тройку? Да, этот. Потому что цели Чичикова в дороге меняются. Потому что меняется сам Чичиков. Потому что везет Чичикова колесо, и подчиняется оно не Чичикову, а автору, и, кроме того, колесо — это круг, и Чичикову в поэме придется возвратиться на круги своя.
2Когда Чичиков выехал от Коробочки, земля на дороге была «глиниста и цепка», и оттого «колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком», что значительно отяжелило экипаж. Именно это обстоятельство и задержало Чичикова, и он выехал на шоссе позднее, чем того хотел. А явись он в трактир, стоящий на шоссе, раньше, он не встретил бы там Ноздрева и не дал бы промашки с открытием тому тайны о «мертвых душах», что и расстроило в конечном счете его предприятие. Роковая ошибка Чичикова (визит к Ноздреву) произошла из-за отяжеления колеса.
Колесо и далее будет фигурировать в поэме как некий знак, подающий намек на кренделя и загогулины, которые делает, отклонясь от прямого пути, Чичиков. «…Все пошло, как кривое колесо», — скажет Гоголь, посвящая читателя в чувства Чичикова, сбитого с толку разоблачениями Ноздрева. Всегда аккуратный и точный, все взвешивающий и держащий в голове, Чичиков вдруг потеряет власть над собой, станет ходить не с той карты, а однажды, сильно размахнувшись рукою, «хватит сдуру свою же».
Колесо в «Мертвых душах» то подыгрывает Чичикову, то мешает ему. Чичиков хочет ехать, а колесо не хочет. Он настаивает на скорейшем отбытии, а колесо как бы говорит: погоди. Так поступает оно в день отъезда Чичикова из города. Отъезд назначен на шесть утра. Все собрано, все готово, готов и сам хозяин брички, но в последнюю минуту к Чичикову является с виноватым видом Селифан и говорит: «…Вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой везде пошел».
То, что колесо обтягивают новой шиной (а эта обтяжка затягивается на три часа), дает Чичикову еще некоторое время на размышления — на размышления, которыми он не собирался заниматься. Ибо размышления для героя Гоголя, паузы в деятельности, остановки в пути, пусть то будет даже путь добывания «копейки», смерти подобны. Он никак не выносит этих пустот, этих тягостных минут наедине с собой, когда надо думать, думать и думать.
В «Мертвых душах» есть лицо, которое мелькает невзначай, на одну минуту, но явленье его трудно изгнать из памяти, потому что трудно забыть ночь в губернском городе, полную тишину, погашенные окна в домах и единственное горящее в гостинице окно, за которым ходит сосед Чичикова — рязанский поручик, примеривающий уже пятую пару сапог. «Несколько раз подходил к постели, — пишет Гоголь, — с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».
Поручику живется легче, чем Чичикову: он любитель сапог. Созерцание сапога отвлекает его от мыслей о жизни. Можно убить целую ночь на обсматривание каблуков. Поручик — артист созерцанья, поэт одиночества, способный саму скуку обратить в праздник.
Чичиков, когда он один, перебирает бумажки, лежащие в шкатулке, листает том герцогини Лавальер (единственная книга, которую он возит с собой) или смотрится в зеркало. Это любимое его занятие, как, впрочем, и столь же любимое занятие других героев Гоголя — Собачкина из «Отрывка» и Хлестакова.
Все они от одиночества нервничают, потому что даже ничтожная деятельность — для них деятельность, потому что она дает возможность отвлекаться от смерти. Они, как и Чичиков, живут настоящей минутой, а что там, по ту сторону ее, — бог весть.
Оттого Чичиков все время и спешит, погоняет то Селифана, то Петрушку, а Селифан, в свою очередь, погоняет лошадей. Спешка — темп жизни гоголевского героя, он должен все успеть, он «вдруг» хочет схватить то, что накапливается годами.
«…Да не так, как немец, — говорит в поэме мертвый Максим Телятников, — что из копейки тянется, а вдруг разбогатею».
Это «вдруг» сродни и Чичикову. Ему ведомы и азарт, и перебарщивания, и хлестаковщина.
Колесо, задержав Чичикова в городе, вывозит его на встречу со смертью. Дорогу бричке пересекают похороны прокурора. Скорбная процессия, однако, вызывает ободрительные мысли у героя Гоголя. «Это, однако ж, хорошо, — думает он, — что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».
Такова примета, но таково и предупреждение Гоголя. Первое такое предупреждение делает в поэме Плюшкин. Тут смерть является в образе своего предвестника — старости, и Чичиков, глядя на Плюшкина, на его прореху на спине, думает: не дай бог! Не дай бог дожить до таких лет и превратиться в пародию на человека.
Всякий раз, когда Чичиков встречается с кем-либо из помещиков, он совершает осмотр своих идеалов. Манилов — это семейная жизнь, бабенка, детки, Коробочка — изобилие и удовольствие, чесание пяток, пуховая перина, Ноздрев — хвастовство и завиральность, игра, блеф, Собакевич — собственная деревенька, доход, крепкие избы, работящие мужики, Плюшкин — капитал, недвижимость. Воплощенные идеалы Чичикова проходят перед ним, имея лицо, фамилию и даже биографии.
Происходит странная вещь: Чичиков путешествует по губернии, объезжает незнакомые ему деревни и поместья, а на самом деле колесит по стране своих мечтаний, только находятся эти мечтания не в воздухе, не у него в голове, а прикреплены к той существенности, до которой так охоч герой Гоголя.
И всякий раз он смотрится в кривое зеркало, которое, отражая не его, Чичикова, отражает тем не менее именно его, потому что и Манилов, и Коробочка, и Ноздрев, и Плюшкин по отдельности то, чем сразу вместе хотел бы стать Чичиков.
Маниловский бельведер, с которого видно Москву, то же, что и мечты Чичикова о херсонских поместьях, Ноздрев напоминает ему самого себя в минуты вранья, Собакевич пугает отсутствием души, которая, «как у Кощея Бессмертного», скрыта «где-то за горами… и закрыта… толстою скорлупою». Перед кучей Плюшкина он замирает, как перед своим погибшим идеалом.
Куча эта — надгробный холм над идеалом материалиста. Это миллионы и голландские рубашки, превращенные в прах. Чичиков, глядя на эту кучу, осознает тщету соревнования со смертью.
Ибо, спасаясь от нее, он цепляется за то, что подлежит гниению и уничтожению. Куча Плюшкина — это Смерть, воплощенная в образе смертной материи.
Смерть подступает к герою поэмы в главе о Плюшкине с двух сторон — со стороны старости (сам Плюшкин) и со стороны этой могилы, где зарыт его идеал. Тема смерти из комической переходит в трагическую. Именно в этой главе вспоминает Чичиков о дороге, которая есть его дом, ибо другого дома у него нет, и о том (и эти мысли подсказывает ему автор), что, пока не поздно, надо забирать с собою в путь «все человеческие движения».
Смерть прокурора и похороны прокурора вновь напоминают ему об этом. Не встреть он их, может быть, и не было бы его возвращения к картинам детства, не было бы этих проникнутых жалостью к себе и к своей участи вздохов памяти, после которых тройка Чичикова вырывается на истинный простор. В этом полете она должна пролететь над смертью и перелететь через смерть.