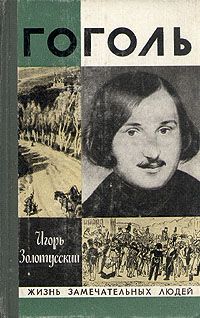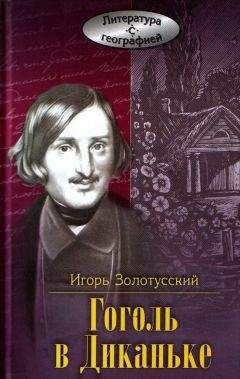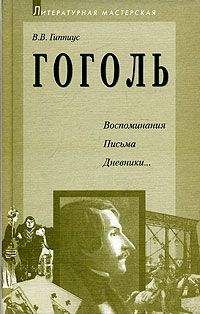Игорь Золотусский - Поэзия прозы
«Смотри, сынку, не доведут тебя до добра бабы!» — предупреждает его Тарас.
И его «предвестие» сбывается. «Нежба», которой прельщается Андрий, приводит его в ряды неприятельского войска. Полячка, как русалка, «выныривающая из темной морской пучины», увлекает его в бездну.
Великое чувство, по Гоголю, все же чувство, которое любезно всем. «Умрем, как жених и невеста, на одной постели!» — говорят запорожцы. Андрий преступает эту заповедь. Погублю себя, шепчет он полячке, откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю.
Как ни прекрасна в повести Гоголя дочь воеводы, как ни обливается она слезами, оплакивая участь голодной матери и отца, как ни старается Гоголь вдохнуть в нее жизнь, она все равно остается «статуей». Несколько строк, посвященных матери Остапа и Андрия, перекрывают все попытки Гоголя показать ослепительную красоту женщины, которая смогла оторвать Андрия и от матери, и от товарищей, и от отчизны.
Старая бедная мать, вьющаяся над изголовьем сыновей своих, когда они спят в ночь перед отъездом на Сечь, ее причитания во время прощания, краткий очерк ее мгновенно Исчезнувшей жизни, в которой не было ни радости, ни счастья, — все это звучит грознее и величественнее, чем молитвы и стенания полячки, описания ее льющихся волос, опутывающих Андрия, ее снежно-белых плеч.
В полячке есть то, что сближает ее с роковыми женщинами Гоголя. И смеются ее уста, пишет Гоголь, и все она заливается смехом в тот момент, когда они знакомятся с Андрием, и все время усмешка блуждает на ее губах, как бы выдавая ее догадки о том, что «погибнет козак». Этот смех убийствен. Холод идет от этого смеха, как холодом веет от снежно-белого лба прекрасной полячки, ее снежных рук и снежных век.
Герой Гоголя ищет оправдания своей страсти. Он абсолютизирует страсть и ставит ее над «великим чувством», которому отдаются его отец и брат. «Отчизна есть то, чего ищет душа наша», — говорит Андрий. Душа для него принадлежность мира, а не какой-то земли. У нее нет родины. Когда ляхи входят в осажденный город и на улицах слышатся крики: «Наши, наши пришли!» — то «не слышал никто из них, — пишет Гоголь о полячке и Андрии, — какие „наши“ вошли в город». Для них в это мгновенье — мгновенье их поцелуя — нет «наших», для них есть только их «не на земле вкушаемые чувства».
Янкель говорит о «чужом одеянье», в котором он видел в городе Андрия: «Потому что лучше, потому и надел». «Так это, выходит, он… продал отчизну и веру?» — возмущается Тарас… «И ты не убил тут же на месте его, чертова сына?» И слышит в ответ: «За что же убить? Он перешел по доброй воле… Там ему лучше, туда и перешел».
Этих доводов не может принять Гоголь. И у души есть родина, настаивает он, и душа не душа, если покидает отечество.
Из римского «далека» Гоголь взывает к лучшим чувствам своего читателя. Он поэтически опровергает эту философию эгоизма во имя философии самоотвержения. У него Андрий совершает переход в Дубно при полном безмолвии ночи. Когда он является в городе, сорвавшийся со степи ветерок уже предвещает утро. «Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика», — замечает Гоголь. Напоминание об этом крике — обозначавшем исстари время предательства (хотя петухов в округе порезали из-за голода) — не нуждается в пояснениях.
5Гоголя всю жизнь попрекали за то, что он изображает только смешное. В «Мертвых душах» он вынужден был обещать, что примется за картины с описанием достоинств русского человека, картины, где его, Гоголя, идеал явится во плоти живых образов. Не дождавшись, когда ход действия поэмы подведет его к желанному «чистилищу», когда откроется перед нею вдали сверкающий «рай», он создает параллельно одной поэме другую поэму, в которой русский реквием покрывается русским апофеозом.
В «Тарасе Бульбе» — том самом, который был переписан в Италии, — нашли себя все темы Гоголя. Тут и Россия, и Запад, и страсть, и любовь, и очищение, и возвышение через смерть, и восторг, и смех Гоголя, и обольщение красоты, сладкая отрава ее, которая наполняет человека (Андрий «пьян» своей страстью), и дело, и слово, мгновение и вечность, муки и веселье, и полный звук, и полет на обоих крыльях.
Народ? Он есть в «Тарасе Бульбе». Вожди народа? И они есть. Стихия и разум? Их спор представлен в повести. И 1812 год — год, который, казалось, был обойден Гоголем, как обошел когда-то места Полтавщины Наполеон, — явился в «Тарасе Бульбе» опрокинутым в XVII век.
Смех Гоголя отступает от этой повести. Он пропадает за высокими травами степи, как пропадают за ними крыши хутора Бульбы и Запорожская Сечь.
Вспомним, как кончаются «Мертвые души». Тройка Чичикова выезжает из города. Обрываются тесные улочки — и перед взором автора распахивается «сверкающая, чудная, незнакомая земле даль». Слышится «затянутая вдали песня», «пропадающий далече колокольный звон». Но этот подъем настроения сменяется страницами, где рассказывается о детстве Чичикова и его проделках на житейском поприще. Взятый высоко звук ниспадает под действием неумолимой прозы.
В «Тарасе Бульбе» звук нарастает, поднимается выше и выше и в конце достигает той музыкальной ноты, где гоголевская двойственность как бы исчезает в гармонии.
1984–1985Примечания
1
Так в старину называли бродячий кукольный театр.
2
Здесь и далее везде, кроме специально оговоренных случаев, выделено мной. — И.З.
3
Здесь и далее использованы разные редакции и варианты оставшихся глав второго тома «Мертвых душ».