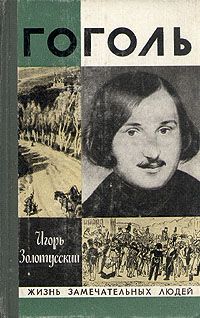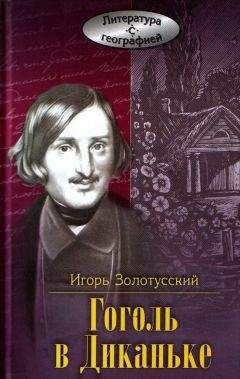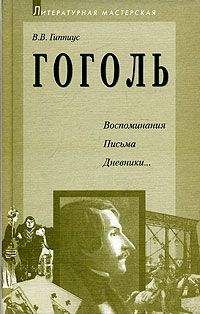Игорь Золотусский - Поэзия прозы
Русский приживал и русский богач, русский плут и русский святой, русская прекрасная женщина (Улинька) и русский идеалист (Тентетников), русский военный и русский чиновник, русский Христос (князь) и русский антихрист (маг-юрисконсульт) — таков охват полотна, которое развертывает Гоголь в живописных частях своей поэмы. Я уж не говорю о русском хозяине (Костанжогло) и русском писателе, который изображен в Тентетникове. А Петрушка и Селифан, а эти торговцы и хозяева из мужиков, которые мельком возникают в главе о Костанжогло, а некий «купец-чародей», который развертывает перед Чичиковым штуки материи, в том числе цвета наваринского дыма с пламенем?
Послушайте, как он говорит, и вы увидите совсем не того купца, который когда-то был изображен Гоголем в «Отрывке» или «Женитьбе», — это уже новый купец, купец России середины XIX века. «Ведь купец есть негоциант… — говорит он. — Тут с этим соединено и буджет, и реакцыя, а иначе выйдет паувпуризм». Двух-трех движений этого «чародея» хватает Гоголю и двух-трех его фраз, чтоб описать его с ног до головы, как хватает и одного упоминания о некоем Вороном-Дрянном, основавшем в Тьфуславльской губернии нечто вроде шайки или тайного общества, в которое, кстати, был завлечен и Тентетников (в других редакциях носящий фамилию Дерпенников).
В первой главе есть место, когда Тентетников, по обычаю сидящий у окна, замечает подъезжающий экипаж Чичикова и в страхе отшатывается в глубь комнаты. Он принимает Чичикова за «жандарма», который приехал взять его. Так возникает в поэме тема «тайных обществ» и всяческих заговоров и смущений, к которым недвусмысленно иронически относится Гоголь. Чичиков, принятый за «жандарма» (сам, можно сказать, бегающий от жандармов), — это так же смешно и двусмысленно, как маг-юрист, то есть представитель правосудия, как смешон Чичиков в персидском халате, принимающий контрабандистов (и тут переодеванье, маскарад: Чичиков то ли шах, то ли еще какой-то восточный правитель, одним словом, ряженый), как смешно то описание одного «филантропического общества», в члены коего Тентетников попал еще в Петербурге.
То филантропическое (и, разумеется, тайное) общество было составлено из каких-то философов из гусар, пишет Гоголь, из недоучившегося студента да промотавшегося игрока. Возглавлял его некий плут, масон и карточный игрок, впрочем, красноречивейший человек. Он-то и присвоил те суммы, которые с невиданным рвением и готовностью к самопожертвованию собирали бедные члены общества. Куда те деньги пошли, было известно одному «верховному распорядителю». Сами же члены общества, добрые люди, но принадлежавшие к классу огорченных людей, к концу пребывания в этой организации сделались горькими пьяницами от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса. Общество, добавляет Гоголь, имело необыкновенно обширную цель — доставить счастье всему человечеству. Мы не знаем, когда это писалось — до 1847 или 1849 года или после, но в теме «тайного общества» есть прямой отклик Гоголя на действительные события в России.
В годы работы Гоголя над окончанием второго тома вопрос о тайных обществах, притихший было со времен 14 декабря 1825 года, вновь всплыл на поверхность. За кирилло-мефодиевцами последовали петрашевцы. Их арестовали в апреле 1849 года, а 18 мая А. О. Смирнова писала Гоголю, что «над ними производится суд». Возглавлял это общество титулярный советник М. В. Буташевич-Петрашевский, но, что более всего поразило Гоголя, состоял в нем и писатель, автор романа «Бедные люди», Федор Достоевский.
Достоевского прочили не только в ученики Гоголя (их было много, этих «учеников»), но и в наследники. И не без основания. Его роман Гоголь прочитал, или «перелистнул», как осторожно признался он в одном письме. Но и этого перелистывания было достаточно, чтобы понять, что слухи о том, что на Руси появился новый Гоголь, не лишены резона.
И вот в декабре 1849 года суд вынес приговор: «…отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского… подвергнуть смертной казни расстрелянием».
К счастью, казнь заменили каторгой.
После европейских событий 1848 года министр внутренних дел составил циркуляр о бородах, который был разослан всем губернским предводителям дворянства. В нем говорилось: «Государю не угодно, чтоб русские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получаются известия, что число бород очень умножилось. На западе борода — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянству служить по выборам».
В мае 1849 года А. С. Хомяков писал одному из своих корреспондентов: «Мы все уже ходим бритые».
Вскоре начались гонения и на славянофилов. В крепость был отправлен Юрий Самарин. Он напечатал в газете отчет о своей поездке по остзейским губерниям. В отчете были некоторые самостоятельные мысли о состоянии государственного механизма. Самарина вызвал для беседы царь. «Знаешь ли ты, что могло произвести твое сочинение?» — спросил он. «Нет, ваше величество». — «Новое четырнадцатое декабря», — сказал Николай.
Четырнадцатое декабря мерещилось ему всюду: в университетах, где чересчур увлеклись преподаванием философии (последовало указание: сократить), и в переводах с иностранного (профессор Московского университета О. М. Бодянский, земляк и знакомый Гоголя, за напечатание в редактируемом им журнале сочинения Флетчера «О государстве русском» был отстранен от должности), и, наконец, в частной переписке. Вскрывши переписку Ивана Аксакова, Третье отделение решило, что и его пора взять под арест. Младшего сына Сергея Тимофеевича (и его хорошо знал Гоголь) заподозрили в намерении установить отношения с панславистами на Западе. И. Аксакова заставили письменно отвечать на вопросы царя. «По вежливому приглашению» Дубельта, как пишет П. В. Анненков, он должен был изложить свои взгляды на современное положение России. Записка была составлена. Николай прочел ее и сказал шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «Прочти и вразуми». «Вразумленный» И. Аксаков отправился служить в Ярославль (то была ссылка), еще ранее выехал в Симбирск Ю. Самарин.
Это было поколение русской интеллигенции, воспитанной уже Гоголем. С Ю. Самариным Гоголь переписывался, с него и с таких, как он, писал он отчасти своего Тентетникова. Мог ли он не волноваться их волнениями? Мог ли не предостеречь от того, что казалось ему кривыми дорогами, уводящими с прямого пути?
3Всюду — в политическую, семейную, хозяйственную, религиозную жизнь России — пытается внести он своим вторым томом спокойствие. Сознавая временами невыполнимость этой задачи, он все же работает над ней, все более расширяя круг тем и проблем, охватывая то, что ранее не хотел захватывать, добираясь до корней и верхушек и стараясь отгадать загадку русского феномена, а может быть, и феномена всемирного.
Один из современников Гоголя, слушавший главы второго тома «Мертвых душ» в исполнении автора, писал, что Гоголь в нем должен дать отгадку 1847 годам христианства. Так иногда воспринимал свой труд и Гоголь. Охватить всю Русь в поэме ему казалось уже мало, ставя перед своими героями проблемы русские, он не отделял их от задач, стоящих перед человеком вообще, — Россия в будущем должна была влиять на судьбы мира, он заботился и об этих судьбах.
В его бумагах, набросках, черновиках остались строки, поясняющие внутренний сюжет «Мертвых душ», их сверхидею, которая кажется столь же неохватимой, как и привлекаемый Гоголем материал. «Идея города, — записывает он. — Возникшая до высшей степени Пустота… Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до верха смешного… Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью…
Проходит страшная мгла жизни и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная — не страшно ли великое она явленье… жизнь… Весь город со всем вихрем сплетней — преобразование бездельности жизни всего человечества в массе…
Противуположное ему преобразование во II части, — продолжает Гоголь, — занятой разорванным бездельем.
Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»
Записи эти относятся к годам писания первого тома. Но уже в ту пору Гоголь видел в нем не один «жанр», как говорили тогда о бытовой живописи, не одни копии нравов в его отечестве или увеличенные, гротесковые копии жизни, но и некую всемирную карикатуру на жизнь, на великое безделье мира. Вихрь пустоты, завивающийся на пустом месте и уносящий с собой человека, вихрь жизни, не направленной ни на что, ни во что уходящей и ни на что не оглядывающейся, оттого и разорванной, оторванной от содержания, сущности, от духовного первопочатка ее, — вот что вставало перед Гоголем, когда он вглядывался в свою поэму.