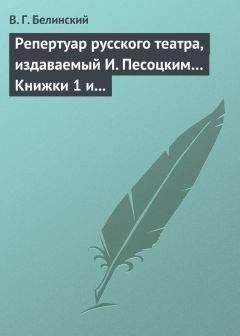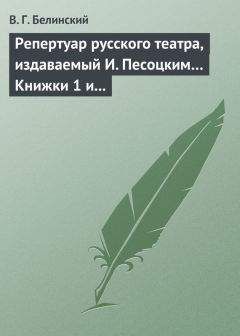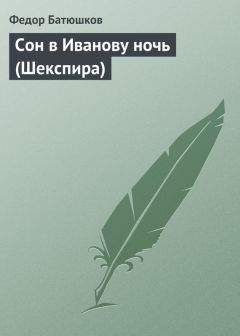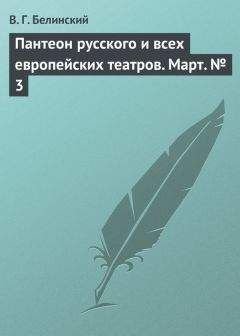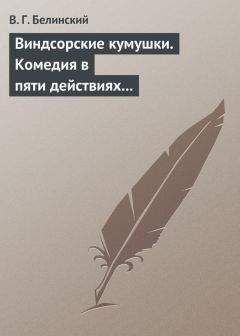Виссарион Белинский - Репертуар русского театра. Издаваемый И. Песоцким. Третья книжка. Месяц март…
Но всего курьезнее отзывы и суждения сочинителя репертуарной статьи о наших драматических писателях. Высоко ставит он таланты гг. барона Розена, Бахтурина, Ободовского, Кукольника, Зотова, Хомякова, Грибоедова, Жандра, Хмельницкого, Загоскина, князя Шаховского; но выше всех их ставит талант – г. Н. Полевого!.. О тех он говорит по несколько строк, сему посвящает несколько столбцов. Послушайте, что говорит он о сем драматическом светиле, то есть о г. Полевом:
Гибкий ум его постигнул быстро тайну искусства, недоступную даже для многих гениев (хороши гении!..), – тайну двигать сердцами зрителей, и проч. (стр. 18 и 19).
Говоря об «Уголино», сочинитель делает следующее наблюдение:
Весьма замечательно, что противники Н. А. Полевого, не зная, как унизить «Уголино», стали утверждать, будто он почерпнул все из немецкой и италианской драмы! Укажите ж, из которой! Сличите, разберите! Клевета и только!
Мы, право, не знаем, есть ли у г. Полевого противники и кто они такие; не помним также, чтобы кто-нибудь серьезно разбирал его «Уголино» и, как будто говоря о великом деле, доказывал, что она почерпнута оттуда и отсюда; но мы помним, что в одной газете драмы Шиллера были поставлены выше драм Шекспира, а «Уголино» выше драм Шиллера, и что через два или три нумера, в той же самой газете и тем же самым беспристрастным и глубокомысленным критиком, эти похвалы объявлены были пристрастными: «Почтеннейшая, – так взывал оный критик к публике, – почтеннейшая! Виноват – приятельство, кумовство, camaraderie – вот что – больше ничего!» Если потребуется, мы назовем по имени эту газету и укажем на нумер и страницу, на которых находятся эти знаменитые и делающие честь русской литературе слова. Общий итог суждения г. сочинителя о драматическом таланте г. Полевого есть тот, что, в отношении к искусству, драмы его еще не осели на прочном основании; что, чувствуя недостатки прежних форм и изложения русской драмы, он ищет новой формы и что «Репертуар» ожидает от него с немалою надеждою, если не решения великой задачи, то формулы (?!..) для ее разрешения (стр. 20). Именно так! ждите, «почтеннейший»!..{11}
После г. Полевого, по словам сочинителя статьи «Репертуара», далеко должен пойти г. Коровкин. Добрый путь, господа!
Читатели могли заметить, что между всеми этими именами, начиная от гг. Полевого с г. Коровкиным и до Грибоедова, нет имени Гоголя. Конечно, между ими и искать его не следует; но если уже между ими вмешалось имя Грибоедова, то Гоголя уж как-то невольно ищешь. Однако ж не беспокойтесь: опытный сочинитель репертуарной статьи не даст промаха. Говоря языком старинных стихотворений Кирши Данилова, мы можем сказать о нем: «А втапоры он догадлив был»{12}. В самом деле, догадлив: он отделил Гоголя от всех имен, поговорил о нем больше, чем о других; и по всему видно, что он приступил к этому не вдруг, а переведя дух, изготовившись и нацелившись. Послушайте же, что он говорит о Гоголе:
Г-н Гоголь написал одну комедию прозою – «Ревизор», за которую дружеская литературная партия превозносит его превыше не только Грибоедова, но даже Молиера! Критики наши забыли (да они, вероятно, никогда и не помнили этого!), что «Ревизор» уступает даже многим комедиям кн. Шаховского и Загоскина, которые вовсе не имели притязания на сравнение их с Молиером. В «Ревизоре» нет, во-первых, никакого вымысла и завязки; во-вторых, нет характеров; в-третьих, нет натуры: в-четвертых, нет языка; в-пятых, нет ни идей, ни чувства, то есть нет ничего, что составляет высокое создание! Сюжет избитый во всех немецких и французских фарсах, тот же, что «Мнимая Каталани» («Die vermeinte Catalani»), «Немецкие горожане» («Die deutschen Kleinstadter»), «Ложная Тальони» («Die falsclie Tagliony»), «Городишко», соч. Пикара («La Petite ville») и т. п., с тою разницею, что в «Ревизоре» более невероятностей. Действующие лица – ряд преувеличенных карикатур, небывалых никогда в Великороссии! Это образчики какой-то пешей малороссийской и белорусской шляхты, которых нам выдают за русских помещиков. Все действующие лица – пошлые дураки или отъявленные плуты, которые хвастают своим плутовством.
Именно так! против этого нечего сказать «Репертуару» и его «почтеннейшим» сотрудникам, читателям и почитателям! С ними мы не намерены рассуждать о том, что значит в драме вымысел и завязка, характеры, натура, язык, идеи и чувство. Мы также не намерены и защищать Гоголя: дело говорит само за себя. Мы лучше укажем на «репертуарную» тактику унижения истинных талантов через возвышение жалкой посредственности: относительно почитателей «Репертуара» превосходная тактика!.. Но – по Сеньке и шапка! – как говорит русская пословица. «Ревизор» имел чрезвычайный успех: все издание его давно раскуплено и ни одного экземпляра теперь нельзя достать в лавках ни за какие деньги; на театрах обеих столиц, особенно в Москве, он беспрестанно дается и каждый раз привлекает многочисленную публику. Все это еще внешние доказательства достоинства «Ревизора»; но для водвильной и «репертуарной» публики только и существуют, что внешние доказательства, – и потому суждение сочинителя статьи могло бы показаться диким даже и для тех, для кого оно написано; но вот как кончил он свое дивное суждение о «Ревизоре»:
Одно превосходное комическое лицо здесь – лакей (хорошо еще!). Вот что мастерски, так мастерски! И за отделку именно этого лица мы признаем комический талант в г. Гоголе, и убеждены, что если он захочет сделать что-нибудь порядочное и зажмет уши на пошлые (!) похвалы, приятелей (вероятно, дело идет о Пушкине?), похвалы, которые половина публики (вероятно, водвильной и «репертуарной») принимает за насмешку над ним, то напишет не фарс, а настоящую комедию, потому что мы видим в нем и юмор и комическую замашку (неужели только в характере лакея?). Дарование видно и в самых мелочах (даже и в «Ревизоре»?), и мы, почитая «Ревизора» пьесою, недостойною того, чтобы на ней можно было основывать славу автора, признаем автора человеком даровитым (вот как! – и все это за характер лакея? – вот что значит удружить!) и с нетерпением ждем случая хвалить его за что-нибудь достойное его таланта (а где же мерка для таланта-то? конечно, характер лакея?).
Славная тактика! сначала разругайте, скажите, что в авторе «нет ни ума, ни чувства, ни таланта, ни фантазии, словом, ничего, что нужно, чтоб быть автором»; а в заключение скажите, что автор подает надежды, и если будет походить на своих критиков до того, что им нечего будет стыдиться его, то напишет что-нибудь дельное. Такая тактика очень действительна в задних рядах нашей литературы: водвильная и «репертуарная» публика простодушна: она согласится и с началом и с заключением статьи, то есть и с бранью и похвалою, как бы они ни противоречили одна другой, а критика похвалит за добросовестность и беспристрастие.
Между современными русскими журналами один (не будем называть его) отличается удивительною пустотою, сухостию и безжизненностию своих «литературных очерков», которые он смело выдает за «критики» – вероятно, для того, чтоб отделаться от составления статей по отделу «Критики», требующих и сведений и труда, которые могут считаться делом ненужным для «очерков»{13}. Все эти «очерки» поются на один и тот же лад и отличаются элегическою унылостию разочарованных юношей двадцатых годов настоящего столетия, – юношей, уж очень состарившихся для 1840 года. В них на один и тот же тон распевается одна и та же мысль, – что теперь все не так, как было, и в современной литературе видна одна посредственность. Сначала мы от чистого сердца смеялись над этими прозаическими элегиями разочарованного самолюбия, но теперь видим, что унылый старичок не совсем неправ. В самом деле, что представляет, например, современная журналистика? – «Библиотека для чтения» в какой-то апатии вяло дошучивает на старый лад старые же остроты; наполняется какими-то дикими статьями о произведениях живописи и скульптуры и о музыкальных концертах;{14} «Литературная летопись» ее уже не превышает трех страничек – тоща, суха, шутки приторны; отстает книжками и быстро клонится к желанному покою. Поневоле воскликнешь: «Конец концов!» – «Сын отечества» пока еще держится только своими ежегодными переодеваниями из одной обертки в другую да тем, что или сожмется в двенадцать, или разлетится на двадцать четыре книжки. Этим он думает выиграть в аккуратности выхода, но – увы! – когда у добрых людей настает январь нового года, у него все тянется еще хвост старого, и прошлогодний журнал остается без хвоста! Конечно, это не мешает «Сыну отечества» смело и самонадеянно называть себя представителем русской литературы в 1838 и 1839 году, хотя иные шутники и замечают, что если он уж непременно хочет так называть себя, то пусть по крайней мере назовется представителем неполным, потому что и до сих пор еще не дал горемычным своим подписчикам двух книжек за прошлый год (за ноябрь и декабрь). О внутреннем улучшении он уже не хлопочет: сам видит, что и стар стал и немощен. И в молодые-то свои годы он был не из бойких, а теперь уж и добрые люди на нем не взыскивают и терпят старика, к которому привыкли в продолжение почти тридцати лет. Старики и читают старика: им любо, когда он с старческою ворчливостию побранивает все новое да похваливает доброе старое время. В добрый час, почтеннейшие старцы! ведь надо же и вам чем-нибудь тешиться под скучную зиму ваших дней!.. Потом «Современник», – но это больше альманах, чем журнал: он не держит голоса на арене современной литературы, не желая иметь с нею никакого дела{15}. И хорошо поступает! Правда, в своих кратких, но чрезвычайно характеристических отзывах о новых произведениях поделом пренебрегаемой им современной литературы он подает голос, но этот голос доходит не до публики, а до сердца только некоторых из его журнальных собратий. – И странное дело! – он говорит тихо, скромно, прилично, без всякой, по-видимому, резкости, а между тем ужасно сердит некоторых из своих журнальных собратий: он даже и не упоминает о них, как бы не замечает их существования, а они разбирают по слову каждую его строку и за каждую сердятся, как за личную обиду… «Северная пчела», – но она, всегда перепечатывая из других изданий, как бы вовсе лишена самостоятельного существования и держится одними политическими известиями, повторенными ею после того, как они напечатаются в других газетах, да разве еще объявлениями о водочистительных машинах и других не относящихся к литературе предметах. – В Москве, которая так недавно гордилась перед Петербургом и количеством и достоинством своих журналов, теперь страшное запустение. Медленно умирал в ней «Наблюдатель», как вдруг, весною 1838 года, вздумал ожить, – и вот поюнел и позеленел, и заговорил живым языком, восторженною речью, словом, расходился, как рьяный немецкий студент{16}. Но добрый и пылкий юноша не понял великой истины, что чувство чувством, мысль мыслью, талант талантом, а опытность и осторожность своим чередом. С первой же книжки начал он сыпать новыми идеями и новыми словами, не догадавшись, что не годится так вдруг и неосторожно будить заспавшихся эпименидов{17}, вместо того чтобы сначала понемногу их расталкивать. Тщетно представлял он и изящную прозу, и изящные стихотворения, и новые идеи: публика видела одни новые, непонятные для нее слова да неаккуратность в выходе книжек, – и бедный юноша не хотел умирать медленною смертию, по-филистерски,