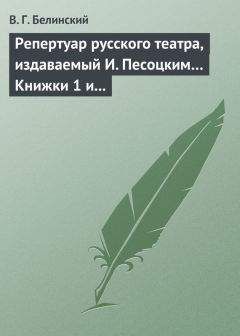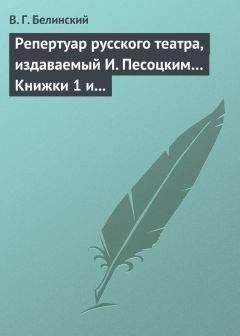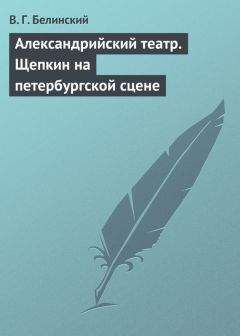Виссарион Белинский - Пантеон русского и всех европейских театров. Март № 3
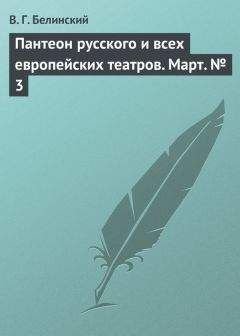
Обзор книги Виссарион Белинский - Пантеон русского и всех европейских театров. Март № 3
Виссарион Григорьевич Белинский
Пантеон русского и всех европейских театров. Март. № 3
ПАНТЕОН РУССКОГО И ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕАТРОВ. Март. № 3. Санкт-Петербург. 1840. В 8-ю д. л. В две колонны. 133 стр.
Третья книжка «Пантеона» начинается «Бурею» Шекспира[1], о которой нельзя сказать, что это одно из лучших произведений великого британца, потому что решительно все произведения его – лучшие: каждое лучше другого, и ни одно не хуже другого. «Буря» и «Сон в летнюю ночь» представляют собою совершенно другой мир творчества Шекспира, нежели его прочие драматические произведения, – мир фантастический. Словно какие тени, в прозрачном сумраке ночи, из-за розового занавеса зари, на разноцветных облаках, сотканных из ароматов цветов, носятся перед вами лица «Бури», начиная от безобразного чудовища Калибана до светлого духа Ариеля, – от сурового волшебника Проспера до пленительной Миранды. Словом, «Буря» Шекспира – очаровательная опера, в которой только нет музыки, но фантастическая форма которой производит на вас самое музыкальное впечатление. Однако фантастическое Шекспира совсем не то, что фантастическое немецкое, фантастическое Гофмана: при всей своей волшебной обаятельности, оно не улетучивается в какую-то форму без содержания или в какое-то содержание без формы, а является в резко очерченных, в строго определенных формах и образах. Такое тесное и живое слияние (конкреция) подобных противоположностей, каковы – фантастическая неопределенность содержания и художественная определенность формы, возможно только для великих художников, для тех единственно и исключительно истинных жрецов искусства, которые, по своей глубоко художественной натуре, никогда не выходят из сферы творчества и не допускают в нее чуждого ей элемента – отвлеченного мышления (рефлексии). Недавно, в одном русском журнале, было замечено, что Пушкин не идеален, что его поэзия чужда неопределенной выспренности и крепко держится земли и определенных образов и что вследствие этого Пушкин – поэт не мировой, не великий, хотя и с примечательным талантом[2]. По такому определению можно и с Шекспира снять титул великого и мирового поэта: как и Пушкин, он крепко держится земли и, в отношении к мечтательности и идеальной выспренности, составляет совершенную противоположность с Шиллером и еще больше с Жан-Полем Рихтером. Но потому-то он и неизмеримо выше обоих их, так выше, что сравнивать его с ними невозможно, как невозможно Шиллера и Жан-Поля Рихтера сравнивать с каким-нибудь талантливым русским поэтом, который в туманных элегиях высказывал свои туманные чувства. Шекспир – поэт действительности, а не идеальности. Пушкин тоже. В сущности, Шекспир – более идеальный поэт, нежели Шиллер; но Шекспир, возносясь в превыспреннюю сферу вечных идеалов, низводил их на землю и общее обособлял в индивидуальные, определенные и замкнутые в самих себе явления. Правда, Шекспир крепко держался земли, но, вероятно, потому, что сама земля или так называемый мир земной есть вечная идея, из надзвездных областей идеальной возможности ставшая особным, в самом себе замкнутым явлением. Идея земного мира не написана на нем, вроде апоффегмы или какой-нибудь нравственной сентенции, но он весь проникнут насквозь своею идеею, как кристалл лучом солнечным, и составляет с нею единое и нераздельное; почему и трудно усмотреть его идею, особенно тем, у кого нет внутренних очей, внутреннего ясновидения. По тому же самому нет ничего труднее, как отличить идею от формы в художественном произведении: то и другое слито воедино, и небесное является земным, бесконечное – конечным, невыговариваемое – определенным. Оставляя в стороне вопрос о превосходстве (которого мы и не думаем отрицать или оспоривать) Шекспира перед Пушкиным, можно смело сказать, что только слепые могут не видеть, что оба эти великие явления творческой силы принадлежат к одному разряду, суть явления родственные. Но потому-то и недоступны они для большинства. Идея, не органически связанная с формою, идея, которая не сквозит через форму, как луч солнечный через граненый хрусталь, а виднеется через трещины и щели формы, – такая идея доступнее для большинства, так же точно, как «идеальные» поэты доступнее для него, чем действительные художники.
Пределы журнальной рецензии не позволяют нам критически рассматривать «Бурю» Шекспира, и потому мы по необходимости должны ограничиться легкими замечаниями. Оригинальность и верность характеров, их резкая очерченность и определенность, художественная соответственность содержания с формою, полнота, оконченность, – все это неотъемлемые качества каждого произведения Шекспира, качества, о которых или должно говорить все, или ничего не говорить. К особенностям «Бури» принадлежит этот полусумрачный, таинственный колорит, который происходит от элемента фантастического. Прочтете, – и словно проснетесь от какого-то тревожного, но волшебного сладкого сна. И как дивно обаятельно, как бесконечно прекрасно фантастическое Шекспира! Послушайте песню духа Ариеля:
На песчаный брег толпами
Собирайтеся живей,
Собирайтесь, и руками
Соплетайтеся тесней;
Поцелуи расточайте,
Игры, пляски затевайте!..
Стихнул ярый шум валов!
Вторь мне, сладкий хор духов!
Xор. – Боу! воу! вау!
Лает пес на дворе.
Xор. – Боу, воу, вау!
Слышу крик на заре…
То петух на суку
Затянул кукреку.
Твой отец под водой глубоко схоронен,
Его кости в коралл обратились;
А на место очей две жемчужины; он
Не истлел – все черты сохранились.
Только море его облекло самовластно
В образ дивный, роскошно прекрасный,
Над ним хор Нереид ежечасно звучит.
Чу! слышу, их колокол в море гудит.
Там, где пчелы, я кормлюся;
Лишь сова начнет кричать,
Я в распукольке ложуся
Белой буковицы спать.
Мысль летучую седлаю,
И вослед младой весне
Беспрерывно я летаю…
Как теперь отрадно мне!
Сладко, вольно и счастливо
Буду жить я под листком,
Что трепещет боязливо
На цветочке луговом…
Какая роскошная фантазия! Она раскрывает таинственные убежища замкнутых в явления духов жизни, дает им причудливо обольстительные образы и населяет ими и небо, и землю, и воды, и леса… Вот истинный мир фантастического!.. Но в «Буре» много и других элементов: тут и высокая драма, и смешная комедия, и волшебная сказка. И все это так слито, так проникнуто одно другим и составляет такое чудное целое!.. «Буря» – прекрасный сюжет для оперного либретто, если бы искусная рука взялась за него. А характеры?.. Одна Миранда представляет собою целый мир поэтической красоты. Девушка, с младенчества не видевшая никого, кроме своего отца да чудовища Калибана, не имеющая никакого представления о мужчине, встречается с прекрасным молодым человеком, – и только кисть Шекспира могла нарисовать такую дивно верную картину развивающегося чувства любви в девственном сердце юного, прекрасного, младенчески простодушного существа!..
Желаем, чтоб кто-нибудь из людей с талантом перевел «Бурю» не прозою, а стихами. «Буря» больше, чем какая-нибудь другая пьеса Шекспира, теряет в прозаическом переводе. Впрочем, «Пантеон» все-таки оказал русской публике неоценимую услугу напечатанном этого перевода, который, конечно, не без недостатков, но вообще очень хорош. По выписанным песням Ариеля читатели могут видеть, что лирические отрывки переданы прекрасными стихами.
За «Бурею» Шекспира следует «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городке» – оригинальная комедия в пяти действиях, сочинение Грыцько Основьяненко, написанное им еще в 1827 году. Мы так высоко уважаем прекрасный талант Грыцька Основьяненка, что ничего не скажем об этом его произведении, которого талантливый автор очень и очень не без причины не хотел так долго печатать. Появление же его в печати приписывают просто спекуляции тех из почитателей таланта Основьяненка, которые, выпрашивая у него позволение напечатать эту пьесу, думали оказать ему этим услугу.
«Иван Афанасьевич Дмитревский, славнейший русский актер» и «Придворная труппа актеров императора Наполеона в Москве, в 1812 году» – две журнальные статьи, чрезвычайно интересные по содержанию и хорошо написанные[3]. «Панорама театров» содержит в себе очень любопытную статью – «Дебют русского певца в Болоньи, 19/31 октября 1839 года» и «Дагерротип в гареме», анекдотическую повесть[4]. В отделении «стихотворений и куплетов» помещена сцена из «Торквато Тассо», драмы Гете, превосходно переведенная г-м Струговщиковым, которого прекрасные переводы из первой части «Фауста», «Прометея» и «Римских элегий» известны русской публике по их высокому художественному достоинству. В самом деле, многие ли так переводят: