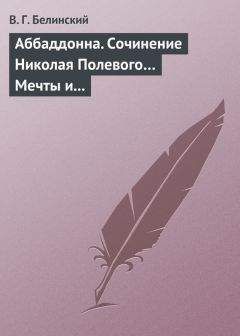Виссарион Белинский - Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы
Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные надежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках; а гордость и самоуверенность породили множество обозрений. Только один Пушкин был предметом достойным и обозрений, и критик, и споров, а между тем все шло зауряд в обозрения. И разумеется, эти обозрения были важны, горды и веселы, как молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без числа, без меры, и все это возбуждало участие, восторг, удивление, потому что все это было ново. Следовательно, обозревателю было, что обозревать, было о чем потолковать. Одна голая и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла составить статейку; а, разведенная фразами, разжиженная чувствованьицами, сдобренная теориями и идеями, эта перечень превращалась в большую статью. И эту статью читали наперерыв и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.
Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм привел за собой эманципацию, то естественным образом начало закрадываться сомнение насчет достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков, не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял только в Пушкине, а что все остальное была та же старина, только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, И новички успели состариться и наскучить. Разумеется, это совершилось не вдруг, а постепенно. Тогда обозрения начали терять свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная критика.
Итак теперь – что теперь обозревать? Нового уж нет ничего, все старо. У меня страстная охота писать, и я во что бы то ни стало хочу написать роман – но что же? Я во всем предупрежден! Хочу писать роман исторический – старо; перерываю все эпохи русской истории – старо; хочу писать роман нравоописательный и нравственно-исторический – но и это старо и пошло; хочу писать роман географический, статистический, топографический – опять старо; вздумал было однажды нравственно-фантастический – но и тут какой-то злодей предупредил меня; хочу писать подземный, представить людей маленьких с мизинец и потом больших с коломенскую версту – куда! этим еще восьмнадцатый век воспользовался, а я ничего не хочу иметь общего с восьмнадцатым веком; но вот вдруг блеснула светлая мысль: хочу вывесть людей допотопных и потом людей ходящих, мыслящих и говорящих вверх ногами – и тут предупредила меня игривая фантазия Барона Брамбеуса{3}. Ну, поверите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался, как ни ломал свою бедную голову, а кончил тем, что пришел в отчаяние и решился не, писать ничего по части поэзии. Но наши писатели не так робки и, может быть, не так горды и самолюбивы в этом отношении, как я: они, знай свое – тормошат старину и слушать не хотят ни публики, ни рецензентов. Честь и слава их храбрости, но каково публике-то от этой храбрости? – Но публике поделом: кто ее заставляет пробавляться истертою стариной! – А каково рецензентам-то? – Но и им поделом: кто их заставляет писать рецензии и горячиться из пустяков? – А каково обозревателям-то – что им остается обозревать? – А кто их заставляет обозревать, когда нечего обозревать? – Они и не обозревают!.. И слава богу!..
И после этого вы, милостивый государь, требуете от меня – чего же? – обозрения!.. Но, видно, делать нечего – и я, в угождение вам, посвящаюсь в обозреватели!..
Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши красноречивые обозреватели, в сердечной простоте, с теплою верою, с полным убеждением, что они делают дело, а не порют вздор, начинали свои обозрения взглядами на состояние земного шара, когда еще на нем не было людей, или с яиц Леды, или с потопа, или по крайней мере с Греции и Рима, чтобы прошедшим объяснить настоящее. Обозревателю наших дней не для чего залетать так далеко: он должен начать с предмета, самого близкого к сердцу всех и каждого, самого необходимого в жизни – с кармана… Да! в кармане должен видеть он таинственный рычаг этой литературной деятельности, которая промышляет и оптом и по мелочи; в нем должен искать он решения на все мудреные загадки современной русской литературы{4}. Увы! миновал золотой век нашей литературы, наступил железный, а
…В сей век железный,
Без денег, слава – ничего!{5}
Что делать! покоримся судьбе – видно, так должно быть, а чему быть, тому не миновать! Теперь все пустились в литературу, все сделались поэтами, романистами и повествователями. Классический период нашей литературы был не умнее, но как-то благороднее нынешнего; тогда пускались в литературу из славы, из известности, и притом только люди, по крайней мере знавшие грамматику, знакомые с литературным тактом своего времени, не чуждые здравого смысла; теперь же романтизм освободил нас и от грамматики, и от приличия, и от здравого смысла. Тогда литература была уделом какого-то привилегированного класса; теперь же пишут и сапожники, и пирожники, и подьячие, и лакеи, и сидельцы авошных и мушных лавок, словом все, которые только умеют чертить на бумаге каракульки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего она так расхрабрилась? Где рычаг этой внезапной и живой литературной деятельности? Я уже сказал, что его надо искать в кармане… Знаете ли что, почтеннейший Николай Иванович!{6} Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, но это нисколько не мешает мне видеть его странностей, и я не почитаю за грех пошутить, под веселый час, добродушно и незлобливо, над его странностями, как всякой порядочный человек не почитает для себя за унижение посмеяться иногда над собственными своими недостатками. Знаете ли вы, в чем состоит главная странность вообще русского человека? В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности; я сам, грешный, вслед за другими взводил эту небылицу (в чем и каюсь); но этот упрек неоснователен: русскому человеку вредит совсем не подражательность, а, напротив, излишняя оригинальность. Пробегите в уме вашем всю его историю – и доказательства явятся перед глазами. Вот они… Но постойте, чтоб яснее выразить мою мысль, я должен прибавить, что русский человек, с чрезвычайною оригинальностью и самобытностью, соединяет и удивительную недоверчивость к самому себе и, вследствие этого, страх как любит перенимать чужое, но, перенимая, кладет тип своего гения на свои заимствования. Так, еще в давние веки прослышал русский человек, что за морем хороша вера, и пошел за нею за море. В этом случае он, по счастию, не ошибся; но как поступил он с истинной, божественной верой? Перенес ее священные имена на свои языческие предрассудки: св. Власию поручил должность бога Волоса, Перуновы громы и молнии отдал Илье-пророку, и т. д. Итак, вы видите: переменились слова и названия, а идеи остались все те же! Потом явился на Руси царь умный и великий{7}, который захотел русского человека умыть, причесать, обрить, отучить от лени и невежества: взвыл русский человек гласом велиим и замахал руками и ногами; но у царя была воля железная, рука крепкая, и потому русский человек, волею или неволею, а засел за азбуку, начал учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И в самом деле, русский человек стал походить с виду как будто на человека: и умыт, и причесан, и одет по форме, и знает грамоту, и кланяется с пришаркиваньем, и даже подходит к ручке дам. Все это хорошо, да вот что худо: кланяясь с пришаркиваньем, он, говорят, расшибал нос до крови, а подходя к ручкам прелестных дам, наступал на их ножки, цепляясь за свою шпагу и не умея справляться с треуголкою; выучив наизусть правила, начертанные на зерцале рукою великого царя, он не забыл, не разучился спрягать глагол брать под всеми видами, во все времена, по всем лицам без изъятия, по всем числам без исключения; надевши мундир, он смотрел на него не как на форму идеи, а как на форму парада, и не хотел слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудие не средство к жизни, что присутственное место не лавка, где отпускают и права и совесть оптом и по мелочи, что судья не вор и разбойник, а защитник от врагов и разбойников. Потом был на Руси другой царь умный и добрый; видя, что добро не может пустить далеко корня там, где нет науки, он подтвердил русскому человеку учиться, а за ученье обещал ему и большой чин и знатное место, думая, что приманка выгоды всего сильнее{8}; но что ж вышло?.. Правда, русский человек смышлен и понятлив, коли захочет, так и самого немца за пояс… И точно, русский принялся учиться, но только, получив чин и место, бросал тотчас книги и принимался за карты – оно и лучше!.. Итак, не ясно ли после этого, что русский человек самобытен и оригинален, что он никогда не подражал, а только брал из-за границы формы, оставляя там идеи, и одевал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками. Конечно, к этим доморощенным идеям не совсем шел заморский наряд, но к чему нельзя привыкнуть, к чему нельзя приглядеться?.. Обратимся к литературе. С нею человек поступил точно так же, как и со всем тем, о чем я уже говорил. Как все прочее, она у него – цветок пересаженный, и надо сказать, как все хорошее, не им самим, а правительством. Литература наша началась при Елисавете, а получила некоторую оседлость при Екатерине II. Нам известно, что в царствование этой великой жены наша литература находилась, подобно почти всем европейским литературам, под влиянием французской. Французская литература была тогда полным выражением XVIII века, а что такое XVIII век, об этом всякой знает. Мы скажем только, что XVIII век был малый веселый и разгульный, любил мягко поспать, сладко поесть, пьяно попить и ни о чем не тужить. Веселиться — была его цель, и все средства почитал он позволенными к достижению этой цели. Всем известна мудрая русская пословица: «богатый на деньги, а голь на выдумки». Поэты и вообще литераторы были тогда люди бедные и неважные, но это не помешало им веселиться наравне с людьми богатыми и веселыми: они надели на себя ливреи людей богатых и важных и, за их столами, в восторге радости, запели песни дивные, живые{9}. Кого ж они воспевали? Героев тогда не было; греческая литература была плохо понимаема, но хорошо была понята литература латинская – и стали воспевать меценатов! Да как было и не воспевать их? Люди были они богатые, поэтов кормили сладко, хотя иногда употребляли их вместо плевальниц, но что ж за беда – ведь утереться не трудно. Этого было довольно для русского человека: он так хорошо, на этот раз, сошелся с французом, что взял и идею и форму, и, следовательно, еще в первый раз, явился совершенным подражателем. Тогда-то пошли наши оды, с любимым словечком: «о ты», и пр. Но в мире все оканчивается, кончился и XVIII век, кончился везде, а у нас еще здравствовал, и только в одной литературе стал изменяться. В этом отношении мы должны с благодарностью произносить имя Жуковского, познакомившего нас с германскою литературой и передавшего нам несколько благоуханных цветов ее. Были дарования, но иные из них шли не своею дорогою, сбиваемые XVIII веком, и остались только в литературных обозрениях, а не в памяти народа; другие, по своей незначительности, успели добиться только эфемерной славы. Идея искусства и потребность искусства проявились только в начале третьего десятилетия настоящего века; но, кроме Пушкина и Грибоедова, не было поэтов; зато, как я уже и говорил выше, было много обозрений.