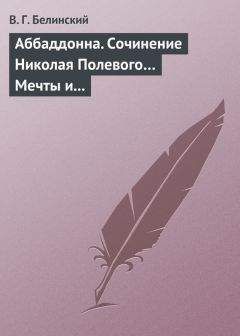Виссарион Белинский - Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы
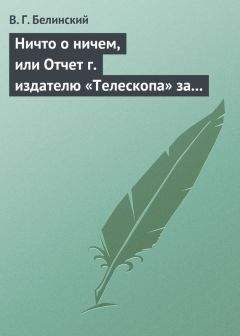
Обзор книги Виссарион Белинский - Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы
Виссарион Григорьевич Белинский
Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы
I
Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода нашей литературы, во время вашего пребывания за границей, и привели меня тем в крайнее затруднение. Разве вам не известно, что ничто не ново под луною? Каких же хотите вы новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда», скажете вы. Нет, вы неправы: труда от этого мне не только не меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я должен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду повествовать вам в ней? О ничем?.. Итак, надо сделать что-нибудь из ничего? – Помните ли вы, как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев, угомонил насмерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о ничем, и весь вылился в ничто?..{1} Конечно, я не пользуюсь литературного славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового ничто; но у меня другой страх, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и в конечной погибели своей репутации, высказаться в ничем на нескольких страницах. Притом же, хотя я, в отсутствие ваше, волею или неволею, играл роль сторожа на нашем Парнасе, окликая всех проходящих и отдавая им, своею алебардою, честь по их званию и достоинству, хотя неутомимо и неусыпно стоял на своем посту; однакож многое ускользнуло от моей бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа – и тут некогда было расспрашивать каждого порознь; стукнешь алебардою по всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать поголовную перекличку, бегать по всем закоулкам и собирать народ православной? Нет – отрекаюсь от этого труда; и так было много хлопот и, может быть, много шуму из пустяков! – Да и притом возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак, я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно врезались в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой обзор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рассказ наскоро о предмете многосложном, разнообразном и ничтожном.
Итак, я обозреваю, становлюсь обозревателем! – Обозревать, обозреватель — вы помните, как громко звенели некогда эти два словца в нашей литературе? – Кто не обозревал тогда? Где не было обозрений? Какой журнал, какой альманах не имел своего штатного обозревателя? – И это была должность нетрудная, легкая, казенная; за нее брался всякой, не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков грамматики и здравого смысла! – Отчего ж теперь так мало пишется обозрений? Куда девались все эти обозреватели? – Я прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того, чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не может быть нечто?
Обозрения всякого рода бывают результатом или сознания силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги, поверяет счеты и подводит итоги, тот или богатеет день от дня, или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он хочет удостовериться в улучшении своего состояния и определить степень этого улучшения, а во втором случае хочет измерить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отверстую перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее к ее ужасному виду или как будто находя жестокое наслаждение в сознании своего бедственного положения, веселясь собственным своим отчаянием. У нас была уже литература, был Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонвизин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Мерзляков и, наконец, Батюшков и Жуковский: все эти люди пользовались почти равным участком славы, всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней мере все они слыли равно за художников и гениев (или, по-тогдашнему, за образцовых писателей). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, делать возгласы, и много-много, если указывать на некоторые неудачные стишки в целом сочинении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как их починить. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые напрокат у французов; критики не было, потому что критика более или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало полное убеждение в богатстве нашей литературы как по количеству, так и по качеству; литературных обозрений тогда тоже не было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко, реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было напасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, высказал много умного и дельного, но как его критицизм был явным анахронизмом, то и не принес никаких плодов. Но вдруг все переменилось: явился Пушкин, и вместе с ним так называемый романтизм. В чем состоял этот романтизм? В отношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что изо всех наших поэтов Пушкина одного можно было назвать поэтом-художником и не ошибиться, что он, вместо того чтобы писать громкие и торжественные оды на современные события, обыкновенно или теряющие свою прелесть для потомства, или представляющиеся ему в другом свете, стал говорить нам о чувствах общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми более или менее испытанных; что он напал на истинный путь и, будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению. Да! воля ваша, а я крепко убежден, что народ или общество есть самый лучший, самый непогрешительный критик. Я однажды высказал, или, лучше сказать, повторил чужую мысль{2}, что Державина спасло его невежество: отрекаюсь торжественно от этой мысли, как совершенно ложной. Державин не был учен, но находился под влиянием современной ему учености, разделял верования и мнения своего времени об условиях творчества и назло своему гению всю жизнь свою шел по ложному пути. Поэтому те из его созданий, которые противоречили современной ему эстетике, отличаются истинною поэзиею. Возьмите, например, «Водопад»: похоже ли это на оду, дифирамб, кантату? Это просто элегия, которая по своей форме и своему духу только тем отличается от элегий даже самых крошечных наших поэтиков, что запечатлена гением Державина. И зато как прекрасна и глубока эта элегия! – Но возьмите его торжественные оды: что это такое? Посмотрите, как он в них никогда не мог поддержать до конца своего напряженного восторга, как он в конце каждой из них падал и, начавши высоко и громко, оканчивал ровно ничем! – И кто станет теперь читать эти торжественные оды?.. Измаил, Прага, Рымник, Кагул – все эти имена напоминают о действиях великих; но то ли они, эти великие действия, для нас, чем были для современников? Мы, юноши нынешнего века, мы, бывши младенцами, слышали от матерей наших не об Измаиле, не о Кагуле, не о Рымнике, а об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа. Эти события и ближе к нам по времени и поважнее прежних в своей сущности; да и они слабеют уже в нашем воображении, заглушаемые громами араратскими, забалканскими, варшавскими. Но поэзия всех этих великих происшествий сама по себе так необъятна, что ее трудно уловить, увековечить в звуках. Сверх того, мы уже уверились теперь, что факт или событие сами по себе ничего не значат: важна идея, выражаемая ими. Итак, что же значат все эти торжественные оды, какой интерес могут иметь для потомства все эти громогласные описания? Скажут: это питает народную гордость, дает наслаждение святому чувству любви к отечеству. Русские брали непреодолимые твердыни и всему свету доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзия должна передавать потомству: очень хорошо! но ведь храбрость есть неотъемлемое свойство русских; но ведь они доказывали ее всегда и везде, как только был случай; но ведь ничтожная горсть русских удержала за Россиею Грузию и уничтожила все попытки персидской армии; но ведь ничтожная же горсть русских отбила Армению и защитила ее против Персии и Турции?.. Эти подвиги у нас так часты, так обыкновенны; они составляют ежедневную жизнь народа русского… Да! Державин шел путем слишком тесным: он льстил современности, нападал на интересы частные, современные, и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда не изменяющимся – к интересам души и сердца человеческого! И в этом виновата ученость века, которой он был непричастен, но под влиянием которой он всегда находился. Не зная по-латыни, он подражал Горацию, потому что тогда все подражали Горацию; не постигнув духа и возвышенной простоты псалмов Давида, он перелагал их с прозы на громкие, напыщенные стихи, потому что все наши поэты, начиная с Ломоносова, делали это, не говоря уже о французах. Гораций воздвигнул себе памятник, Державин тоже; но что у первого было, вероятно, вдохновением, то у второго было подражанием. Обратимся назад. Итак, романтизм, в отношении к Пушкину, состоял в том, что он искал поэзии не в современных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом интересе души человеческой[1]. В отношении к другим поэтам, вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что ода была решительно заменена элегией, высокопарность унылостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих гармоническим, плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм состоял в том, что было отвергнуто, как нелепость, драматическое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество поэтов (стихотворцев и прозаиков), стали писать в таких родах, о которых в русской земле дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. Тогда-то наши критики пустились в обозрения: они увидели, что у нас есть писатели и в классическом и в романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то необыкновенным и великим. И это было очень естественно: новость направления и духа сочинений всегда бывают камнем преткновения для критики.