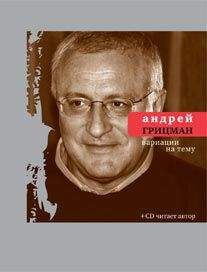Альфред Хаусмен - Избранные стихотворения
Превосходно; но в ответ на просьбу дать пример поэзии никому и в голову не придет процитировать эти стихи. Правильный пример вовсе не обязан быть менее простым, ясным и прямолинейным, однако ему следует быть чуть более возвышенным.
Come, worthy Greek, Ulysses, come,
Possess these shores with me:
The winds and seas are troublesome,
And here we may be free.
Here may we sit and view their toil
That travail in the deep,
And joy the day in mirth the while,
And spend the night in sleep.[8]
И тут мы уже не трясемся галопом вместе с лошадью Гладильщика, а взлетаем вместе с Пегасом. В самом деле, начинающий стихотворец не может поступить лучше, запомнив эту строфу наизусть не столько как образец, сколько как пробный камень, который надо всегда иметь с собой. Эти стихи совершенны так же, как их звучание и движение. Они состоят из самых обыкновенных слов, но свободны от малейшей примеси прозы; и хотя поэзия может приблизиться к небесам гораздо ближе, она никогда не пользовалась крылом надежнее и легче этого.
Я назвал стихотворение совершенным, и совершенство — это высшее требование, которое мы можем предъявлять вещам, но поэзия способна к гораздо большему, и, следовательно, гораздо больше от нее надо ожидать. Существует представление о поэзии, не сводящееся только к чистоте языка и плавности версификации (они доставляют лишь простое и, если можно так выразиться, неокрашенное наслаждение). Это представление требует присутствия некоей субстанции, действующей специально и легко узнаваемо. Сравните строфу из стихотворения Дэниэла вот с этим отрывком из «Кукушки» Брюса или Логана:
Sweet bird, thy bower is ever green,
Thy sky is ever clear;
Thou hast no sorrow in thy song,
No winter in thy year.[9]
Новый элемент прокрался внутрь этих стихов: в них ощутимо присутствие чувства.
Я думаю, что передать чувство — не сообщить мысль, а заставить читателя ощутить внутреннюю вибрацию, соответствующую той, что чувствовал автор — и есть исключительное назначение поэзии. Даже когда стихи не столь красивы и обаятельны, как эти строчки Джонсона
His virtues walked their narrow round,
Nor made a pause, nor left a void;
And sure the Eternal Master found
The single talent well employed[10]
— они всё еще могут обладать нужной силой и вызывать нужный отклик.
Выше этого я сейчас не хочу восходить по лестнице поэзии. Я выбрал эти два примера, потому что их можно назвать совсем простыми, почти бедными, — они содержат разве лишь обещание тех вершин, которых может достичь поэзия. Здесь нет величественности, великолепия и силы, эти стихи не исполняют восторгом, не внушают благоговения; они не пронзают сердце, не потрясают душу, не останавливают дыхание.
Но они — поэзия если не в самом высшем смысле, то, во всяком случае, в высшем из смыслов, поддающихся определению.
Duncan is in his grave;
After life's fitful fever he sleeps well.[11]
Даже для этой поэзии другого имени нет.
Я сказал, что возможных значений для слова «поэзия» настолько много, что разговор о природе этого понятия затруднителен. И тем более нам не следует увеличивать путаницу, обращаясь с этим термином вольно, насильственно прикрепляя его к совсем другим вещам, уже имеющим свое название, или к вещам новым, для которых название еще должно быть изобретено.
Было целое столетие в Англии, в котором место поэзии было узурпировано чем-то совершенно другим, тем, что имеет свое специальное и вполне точное название остроумия. Это не остроумие в его современном смысле, а то, что Джонсон определил как «сочетание несходных образов, обнаружение тайного сродства внешне непохожих вещей». Такие находки не более поэтичны, чем анаграммы; удовольствие, которое они доставляют — чисто умственное и поверхностное, однако именно этот сорт удовольствий искали и находили в стихах образованные люди в течение большей части семнадцатого века. Некоторые поставщики этих удовольствий были, по случайному совпадению, значительными поэтами, и, хотя в целом их стихи были дисгармоничны — нарезаны и связаны в охапки лишенными слуха математиками, — кое-какие из них были красивы и даже великолепны. Но поставщики удовольствий очаровывали не этим и не этим хотели очаровывать. Сравнение и метафора, вещи для поэзии несущественные, поглощали всё их внимание, ценясь тем выше, чем дальше приходилось идти за ними. Притом эти вещи вовсе не считались полезными, помогающими прояснить смысл или оживить то или иное понятие, они не служили даже орнаментом, никто не заботился о том, чтобы возникающий образ обладал сколько-нибудь самостоятельной силой: целью было ошеломить новизной и позабавить изобретательностью публику, только и желавшую быть ошеломленной или позабавленной.
Наслаждение, пусть и роскошное, черпаемое в описании глаз Марии Магдалины, как
Two walking baths, two weeping motions,
Portable and compendious oceans,[12]
— всё же не поэтическое наслаждение, для такого товара слово «поэзия» — неподходящий ярлык.
Условие соответствия названия предмету должно соблюдаться особенно строго, когда та вещь, которой мы столь восхищены, что хотим присвоить ей наиблагороднейшее из всех доступных нашему языку имен, нова. Нам следует остеречься использовать слово «поэзия» так, как химики используют слово «соль». Соль — это кристаллическая субстанция, определяемая по ее вкусу; слово «соль», столь же древнее, как и наш язык, принадлежит народу, который знает, что оно означает. Это слово — вовсе не собственность науки, имеющей от силы триста лет от роду, науки, которая, имея нужду в новом термине для обозначения «кислоты, у которой весь водород замещен каким-либо металлом», лениво удовлетворилась старым и неподходящим словом «соль», вместо того чтобы измыслить что-нибудь поновее и попригоднее. Правильно будет выбрать примером для подражания того самого химика, который, встретив или думая, что встретил, до той поры безымянную форму материи, не стал воровать для нее чужое имя, а самостоятельно выдумал ей должное новое, расширив словарь современного человека полезным словом «газ». Называя словом «поэзия» то, что не напоминает ни формой, ни содержанием ни одну из ранее называвшихся этим именем вещей, мы не только дурно используем и портим язык, но еще и становимся виновными в неуважительном и кощунственном поведении. Имя поэзии может оказаться слишком убогим для обозначения обсуждаемого предмета: этот предмет, будучи определенно чем-то другим, возможно, окажется и чем-то высшим. Когда Господь ниспослал с небес хлеб, и люди ели то же, что и ангелы, и дети Израиля видели среди пустыни маленькие, не больше частичек изморози, круглые капельки, то они не стали называть их перепелами: они встали вровень с произошедшим событием, сказав друг другу: «это манна».[13]
Существует еще и фальшивая поэзия: подделка, сознательно изготовленная и предложенная вместо подлинной вещи. В английской литературе главнейшим примером такой подделки являются произведенные в изобилии и одобрявшиеся и высшими и низшими слоями стихи, принадлежащие периоду, который в чисто литературных целях вольно называется восемнадцатым столетием.
Восемнадцатое столетие — это не отрезок времени, совпадающий с сотней лет, случайно выделенной хронологией, а более долгий период — от «Самсона-Борца» (1671) до «Лирических Баллад» (1798), период, являющий собой подлинное единство и включающий в себя, как неделимое целое и как наиболее мощный инструмент влияния, все зрелые вещи Драйдена.
Более пятидесяти лет назад Мэтью Арнольд, говоря о низкой оценке поэзии восемнадцатого века Вордсвортом и Кольриджем, сделал предупреждение, что, согласно многим признакам, восемнадцатое столетие и его суждения снова входят в моду. Я помню, что когда-то думал про себя: «Уж этого наверняка не случится», — и на этом примере вы видите, что значит быть литературным критиком. Уже довольно давно возникла склонность к пересмотру вердикта, произнесенного девятнадцатым веком в отношении поэзии восемнадцатого. Сильно желание представить этот уничижительный вердикт как выражение неприязни к поэзии, отличной от своей собственной. Это заблуждение. Поэзия восемнадцатого века низко ценилась в девятнадцатом не потому, что она отличалась от его собственной поэзии своей формой, а потому, что она даже в своих высших образцах отличалась по качеству так, как не отличалась лучшая поэзия девятнадцатого века от поэзии всех тех — древних или новых, английских или иных — веков, которые были признаны великими веками поэзии. Измеряемая таким мерилом, поэзия восемнадцатого века, даже когда она не дефектна, а, напротив, хороша и глубока, стоит мало.
Английская литература восемнадцатого века великолепна и является источником наивысшего наслаждения. Высочайший уровень ее мастерства в своем постоянстве превосходит всё, что было до или после нее. И хотя специальной целью и характерным достижением этого века было изобретение и введение в обиход здоровой, искусной и атлетической прозы, занявшей место громоздкой, витиеватой и самовлюбленной прозы Мильтона или Джереми Тэйлора и ставшей надежным орудием точной мысли, всерьез стремящейся к истине, этот век создал и поэтические шедевры. Вполне возможно, что любое английское стихотворение, превосходящее своей длиной лирическое, — пусть даже «Рассказ монастырского капеллана» или «Сказание о старом мореходе», — уступит в совершенстве «Похищению локона». Но влиятельной частью общества, господствовавшей в восемнадцатом столетии и дававшей направление литературе, была интеллигенция, и это повлекло, по выражению Мэтью Арнольда, «заглушение и подавление поэзии», «вторжение холода в образную жизнь души». Человек перестал жить глубиной своей природы, преимущественно занявшись мыслями, не выходящими за сферу понимания; он зажег свечи и спустил шторы, отгородившись от луны, покровительницы поэтов. Стихи продолжали создаваться, и большая их часть была великолепной литературой, но если что-то является великолепной литературой и, кроме того, еще и поэзией, то это что-то определенно не будет великолепной поэзией. Поэзия восемнадцатого века была лучше всего, когда она не пыталась быть поэтичной. В действительности поэзия восемнадцатого века — это имя, используемое для обозначения двух вещей, которые должно различать. Одна из них — добротная, здоровая, будничная вещь, умело выполняющая пользующуюся уважением и вполне достойную, хотя и не слишком возвышенную, работу. Сатира, полемика и пародия, к которым из-за особенностей своего гения был привержен восемнадцатый век и в которых его достижения остались непревзойденными, являют собой те отрасли искусства, где поэзия не чувствует себя дома и где, за исключением тех случаев, когда она используется с величайшей осторожностью и тактом, она может быть по настоящему вредной и неуместной. Заключение «Дунсиады»[14] безусловно может быть названо возвышенным, однако эта интонация благоразумно припасена к самому концу. Ту крупицу поэзии, которую легко может вместить сатира, пожалуй, можно найти в стихах, подобных вот этим: