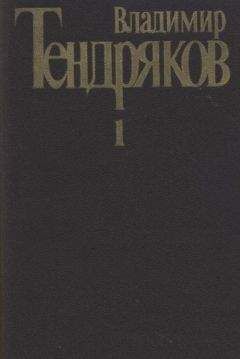Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
Толстой жил не в Нухе, а в Ясной Поляне, слышал здешних соловьев, не каких-нибудь. Они вот так же выщелкивали и высвистывали над ним, как сейчас надо мной. И он, Толстой, в эти минуты обдумывал смерть Хаджи-Мурата, жестокую смерть.
Нас ждал фронт. Из тех, кто сейчас тащились под соловьиные коленца, выдергивая ноги из грязи, не считанные единицы, а наверняка многие скоро должны умереть. Многие из нас, и скоро — это так же неизбежно, как то, что походы заканчиваются привалами. Нет, мы никогда не говорили о смерти и, пожалуй, даже не думали о ней, но наверняка каждый ощущал ее близость, носил в себе, как хроническую болезнь.
И вот теперь я, продолжая из последних сил тащиться за раскачивающимся впереди вещмешком на сутулой спине связиста Фунтикова, услышал не только соловьев, по и почувствовал, что ночь влажна и тепла, воздух заполнен тополиной свежестью, а вверху, не отставая, плывет яркая, радостная лупа. И прежде я не был равнодушен к щедротам природы, не раз испытывал удовольствие от весенней ночи, от пенья соловьев, но всегда быстро забывал. Мимолетное, а значит — неважное. Неожиданная близость Толстого, когда-то жившего, давно умершего, не подозревавшего о том, что я появлюсь на свет, жестокая смерть Хаджи-Мурата, просто и безжалостно им рассказанная, вызвали сейчас странный сдвиг. Соловьи пели задолго до Толстого, пели после смерти Хаджи-Мурата, поют сейчас; пройдет и эта война, они по-прежнему будут петь. Впервые мысль о войне, мысль о смерти, которая, возможно, сторожит меня, не показалась страшной и угнетающей. На мне ничто не кончается, я лишь мелкая частица великого, бесконечного, неисчезающего. Важен даже не я — рано пли поздно все равно же умру! — важен тот след, который сумею я оставить, пусть не такой большой, какой оставил после себя Толстой, где уж… А вот след, вроде Хаджи-Мурата, как знать… Мир не знал еще такой воины, все историки из века в век станут о ней вспоминать, и одно то, что я в ней буду участвовать, — уже след в истории, уже, выходит, не зря появился на свет.
Сейчас, спустя несколько десятков лет, я пытаюсь передать свое мальчишеское откровение в виде размышлений. Нет, я тогда не умел размышлять, скорее всего просто испытал восторженное чувство, которое освободило от подавленности, вызвало уверенность в себе — все выдержу, не сломаюсь. Держусь же я в этом походе — не свалился и не свалюсь!
Мы прошли под соловьиное пение деревню. В ночи под лунным светом замаячили белые каменные ворота толстовской усадьбы, тогда — мы знали по газетам — разгромленной и загаженной побывавшими там немцами. Напротив ворот под мокрым травянистым склоном стоял подбитый немецкий вездеход с разорванной гусеницей, валялись изрешеченные пулями бочки из-под горючего. Мы прошли мимо, впереди у нас лежал Сталинград…
В Ясной Поляне я впервые столкнулся с вечностью и, думалось, пронесу ее через всю свою жизнь. Но много лет спустя, когда были залечены раны, нанесенные войной, мир снова зашумел о войне термоядерной… Всем открылось — как непрочно бытие на планете, поющие соловьи могут смолкнуть вместе с гибелью мятущегося человечества. Самый страшный враг живого, враг человека — сам человек!
К тому времени Лев Николаевич Толстой давно уже стал для меня самым авторитетным консультантом по человеческим вопросам. Чем больше я задумывался над тем, что ждет нас впереди, тем внимательней прислушивался к тому, что говорил он, Толстой, из прошлого. Можно сказать, началась непрекращающаяся, растянувшаяся на десятилетия беседа, темой которой было — как существовать нам дальше, чтоб земля не покрылась радиоактивным пеплом, но лилась кровь, чтоб чередовались весны и в них раздавалось пение соловьев.
В этой статье я в меру своих сил попытаюсь осмыслить и эту беседу, растянувшуюся по моей жизни, и своего великого собеседника.
«Когда созрело яблоко и падает, — отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер стрясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?
Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели, как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою».
Что бы мы ни взяли в творчестве Льва Толстого — эпический ли роман «Война и мир», бытовую ли повесть «Смерть Ивана Ильича», рассказ ли в общем-то о заурядном несчастном случае «Хозяин и работник» — всюду мы сталкиваемся со всеобъемлющими вопросами «отчего?». Отчего жизнь такая, а не иная, отчего мир противоречив, что толкает человека к добру и злу, что истинно, а что ложно в мире сем? Вопросы вопросов!
Какие-то вопросы ставит перед собой каждый писатель. «Художник, — писал А. П. Чехов, — наблюдает, выбирает, догадывается, компонует, — уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не с чем догадываться и нечего выбирать».[1] Все дело в том, какие вопросы задает себе художник — поверхностные или предельно глубокие, узколокальные или всеобъемлющие, временно-преходящие или вневременные, постоянные, вечные.
И вот тут-то выступает одна исключительная особенность Толстого, отличающая его от всех писателей мира, начиная с Гомера. Как бы глубоко ни проникали в жизнь писатели, какие бы тайники мира ни вскрывали они, их интересы, их проницательность не распространялись на первопричинность бытия. Может быть, я выскажу парадоксальные взгляды, и многие со мной не согласятся, но мне кажется, что ни Бальзак, ни Достоевский не ставили перед собой вопрос вопросов: отчего жизнь именно такая, а не иная? Существующий мир они принимали как данность, высказывая о нем лишь свои суждения: то-то хорошо, достойно восхищения, то-то дурно, достойно порицания. А отчего дурно, где истоки хорошего и плохого, — нет, искать не брались, вопросы причинности бытия казались заведомо непостижимыми, это, мол, уже из области сверхчеловеческого.
В тридцать лет Толстой заявляет во всеуслышание: «…как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы». И чего бы впоследствии ни касался Толстой, каких обыденно житейских явлений, традиционных тем, — все под его пером превращалось в «вечное, общечеловеческое».
Возьмем, к примеру, роман «Воскресение». Казалось бы, в его основу взята самая что ни на есть тривиальная история — богатый повеса соблазняет бедную девушку. Сколько слезливо-сентиментальных произведений задолго до Толстого появилось на эту тему. У Толстого же частная, тривиальная история соблазнения попросту исчезает, вместо нее происходит некий катаклизм, сотрясающий основы нравственных отношений, вместо соболезнующих сетований и обличений — напряженный поиск, ни больше ни меньше, смысла жизни. Обобщение?.. Ой, нет, нечто куда большее — переход одного качества в другое! И так от произведения к произведению, на протяжении всего творчества.
Герои Толстого не просто участники катаклизмов, скорей творцы их; не где-то в стороне, а внутри их рождается тот вулканизм, потрясающий основы. Пьер Безухов больше страдает в своих графских покоях, чем в плену во вшивых бараках. Нехлюдова гонят в Сибирь не внешние силы, а его внутренние побуждения. Уместно сравнить толстовских героев с героями других писателей, получивших общемировое признание. Обратимся к Достоевскому.
Раскольников, князь Мышкин, братья Карамазовы — те, в ком наиболее ярко раскрывается неистовый гений Достоевского, несут бремя страданий от жизни, одни с покорностью, другие сопротивляясь. Но даже те, кто проявляет сопротивление, считают достаточной для себя победой, будучи истерзанными и травмированными, устоять перед безжалостной и беспощадной жизнью. Только устоять, а не повлиять на нее.
Герои же Толстого не столько озабочены самозащитой, сколько желанием понять — отчего происходят все болезненные явления. Жизнь не столько пугает их своей агрессивностью, сколько невыносима ее загадочность. Человек по своей природе не терпит никаких загадок, любыми путями всегда стремится объяснить их. Любыми путями, даже путем самообмана. Гром и молния для первобытных людей становились менее ужасными, когда их объясняли действиями страшных богов. Как ни пугающи образы громовержцев, но полное неведение куда страшнее. Все развитие гомо сапиенс по сути есть не что иное, как непрекращающаяся борьба с неизвестностью, преодоление загадок. Именно этой самой характерной человеческой чертой в высшей степени, как ни у кого, наделены герои Толстого, целиком подчинены активной страсти познания.



![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)