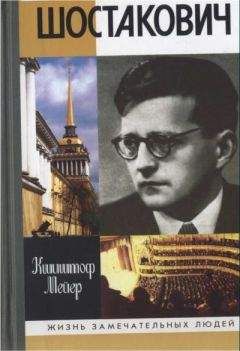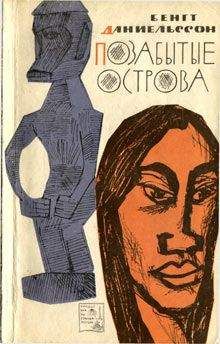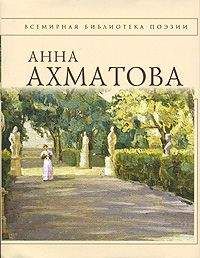Бенгт Даниельссон - Гоген в Полинезии
Придя на берег с кодексом законов в руках, он объяснял прибывающим из других долин
родителям, что они вовсе не обязаны, как им до сих пор внушали, посылать своих детей в
атуонский интернат. В итоге число учеников в каждом классе сократилось почти
наполовину. Не пришли даже многие юные жители Атуоны, которым, по правилам, надо
было явиться245. После этого, как и следовало ожидать, Гоген нажил себе еще одного врага
в лице добродушного Шарпийе; не только потому, что жандарм был убежденным
католиком, но и потому, что из-за школьного инцидента у него сразу прибавилось хлопот.
Первая попытка Шарпийе досадить Гогену выглядит, скорее, смешной: он взял с него
штраф за то, что тот вечером выехал на коляске без фонарей. Словно это могло угрожать
движению на острове, где двуколка Гогена была единственным экипажем! Но вслед затем
Шарпийе предпринял куда более грозный шаг. Двадцать восьмого августа он написал
администратору Маркизского архипелага длинный рапорт, обвиняя Гогена в том, что он:
1. Подстрекал родителей (имярек) не посылать своих детей в школу в Атуоне.
2. Подстрекал туземцев (имярек) не платить налогов.
Из приложенных данных следовало, что доходы от налогов составили всего 13 тысяч
против 20 тысяч в прошлом году. Рапорт Шарпийе заканчивался словами: «Помимо этих,
главных, нарушений мсье Гоген повинен и в других; так, его нравы эпикурейца
показывают туземцам пример, в котором они вовсе не нуждаются»246.
Чистая случайность спасла Гогена. Ревностного блюстителя законов Мориса де ла
Ложа де Сен-Бриссона только что сменил старый друг Гогена, человек мягкий и разумный,
а именно Франсуа Пикено247. Его самого перевели из Папеэте за «неповиновение», и он
отлично понимал людей, которые иногда проявляли строптивость. Пикено до самого конца
благоволил Гогену, это видно не только из сказанных им после смерти художника слов:
«Хотя я разделял не все его взгляды, у нас были отличные отношения»248, - но и из его
действий. В частности, отвечая Шарпийе, он постарался его утихомирить. По поводу
школьного инцидента посоветовал никаких мер не принимать, ведь закон в самом деле
оправдывал Гогена. Но мириться с неуплатой налогов он не мог и разрешил Шарпийе в
крайнем случае пойти на опись имущества.
Вскоре Гоген уразумел, что напрасно затеял всю эту бучу и приобрел себе столько
врагов. К сентябрю здоровье его настолько ухудшилось, что у него не было ни сил, ни
желания искать замену Ваеохо. Боли стали невыносимыми, и снова пришлось, чтобы хоть
немного уснуть, прибегать к морфию. Когда он увеличил дозу до опасного предела, то,
боясь отравления, отдал шприц Варни и перешел на лаудан (опийная настойка), от
которого его все время клонило в сон. Понятно, в таких условиях он писал «мало и
скверно». Здесь к месту привести и слова Фребо, что Гоген часто, «когда смеркалось,
сидел в мастерской за фисгармонией и своей игрой исторгал у слушателей слезы». 249
Одним из немногих, кого Гоген в эти тяжелые дни пускал к себе в мастерскую, был Ки
Донг. Как-то раз, не видя другого способа поднять дух своего друга, Ки Донг сел за
мольберт и начал писать. Как он и думал, Гоген заинтересовался и вскоре, хромая,
подошел, к мольберту посмотреть, что получается. Он увидел, что Ки Донг пишет его
портрет. Не говоря ни слова, Гоген принес зеркало, занял место Ки Донга, взял кисти и
завершил портрет250. Беспощадно реалистичное полотно показывает нам седого, одутловатого, измученного человека, который смертельно усталыми глазами смотрит на
нас сквозь очки с тонкой оправой (илл. 70). Естественно, некоторые знатоки, ссылаясь на
стиль, долго сомневались в подлинности этого неподписанного и недатированного
портрета, экспонируемого теперь в Музее искусств в Базеле, но необычная история этой
картины вполне объясняет ее отличие от всех других вещей Гогена.
На какое-то время Гоген почти убедил себя самого, что искусный специалист сможет
исцелить его, если он вернется в Европу. Он даже решил, что поселится после
выздоровления - в Испании! И, возможно, он был прав, подозревая, что за красочными
сценами боя быков и восхитительными сеньоритами - обычные сюжеты картин
французских художников - крылась другая Испания, совсем неизвестная и бесконечно
более интересная. Узнав об этих планах, Даниель де Монфред постарался возможно
деликатнее объяснить Гогену, что тот зря надеется на излечение. Удивительно прозорливо
он назвал важную причину, из-за которой Гогену следовало оставаться в Южных морях:
«Если ты вернешься теперь, есть угроза, что ты испортишь процесс инкубации, который
переживает отношение публики к тебе. Сейчас ты уникальный, легендарный художник,
который из далеких Южных морей присылает нам поразительные, неповторимые вещи,
зрелые творения большого художника, уже, по-своему, покинувшего мир. Твои враги (как
и все, раздражающие посредственность, ты нажил много врагов) молчат, они не смеют
нападать на тебя, даже подумать об этом не могут. Ты так далеко. Тебе не надо
возвращаться... Ты уже так же неприступен, как все великие мертвые; ты уже
принадлежишь истории искусства».
Пока Гоген получил этот ответ Даниеля, он и сам давно пришел к тому же выводу. С
трогательным смирением он пытался утешить себя тем, что «даже если нельзя вернуть
здоровье, это еще не беда, только бы удалось прекратить боли. Мозг продолжает работать,
и я снова примусь за дело, чтобы трезво попробовать завершить то, что начал. Кстати, в
самые тяжелые минуты это - единственное, что мешает мне пустить себе пулю в лоб».
Как и раньше, когда живопись не давалась, Гоген, чтобы скоротать время, взялся за
перо. Большая часть написанного неизбежно носила отпечаток ожесточения, боли и
горечи. Так, он сочинил два длинных эссе для печати, в которых атаковал своих злейших
врагов. Две трети более длинного эссе были попросту вариантом путаного труда
«Современный дух и католичество», вышедшего из-под его пера в конце 1897 года, в еще
более мрачную пору, когда он помышлял о самоубийстве. Заговорив опять о тирании
католической церкви, - вопрос, который вновь приобрел для него такую актуальность, - он
теперь добавил двадцать страниц. Сразу видно, что опыт журналистики и редактирования