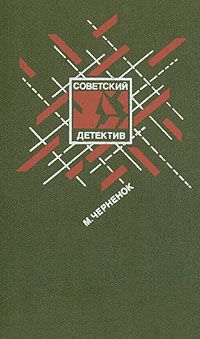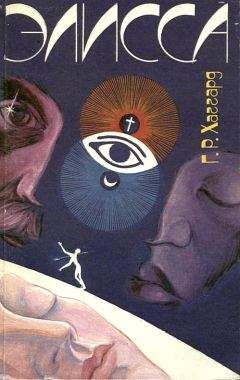Владислав Крапивин - Золотое колечко на границе тьмы
Вертеть пластинку пальцем не пришлось, пружинный двигатель оказался в исправности. И металлическая коробочка с неожиданной громкостью выбросила в пространство старую песенку:
Когда идешь ты на свиданье,
То выбирай короче путь…
Теперь я за этой милой сердцу игрушке кручу иногда пластинки своей студенческой юности. Хотя есть у меня и нормальная стереоустановка. Впрочем, есть и большой патефон того времени, когда я был дошкольником, а папа приезжал с войны в отпуск. Но для этого патефона, как и для нынешнего «стерео» – свои пластинки.
…Танцы на ночном току не могли продолжаться подолгу: Миша берег аккумуляторы.
– Как сядут – никуда завтра не уедем.
Он был славный паренек, этот Миша, почти наш ровесник – только что вернулся из армии. Он лихо катал нас на своем драндулеге с дощатый кузовом. От Бородина до Карасука дорога шла по взгорьям, и мы, стоя в кузове, колотили в крышу кабины и вопили:
– Миша! Сделай невесомость!
Машина на полной скорости взлетала на очередной взгорок и ухала вниз. На миг мы теряли опору – повисали над кузовом в натуральной, “обмирательной” невесомости. Жаль, что лишь на миг.
– Миша, еще!
– Тачка рассыплется!
– Ну и черт с ней! – хохотали мы.
Однажды мы возвращались из села на стан уже в темноте. Я, Миша Папин, Шурик и Валерка. Лихие парни степей, “карасукины дети”.
– Миша, давай!
ЗИС вылетел из-за бугра, завис на секунду в пустоте, а перед нами открылась ширь ночной осенней степи.
Степь была в огнях. Там и тут, от горизонта до горизонта шли комбайны – самоходные и на буксире у тракторов, с грузовиками у бункеров. На каждом агрегате – не меньше десятка лучистых белых огней. А кое-где мерцали рубиновые стоп-сигналы. И все это двигалось, гудело, стрекотало. Жило…
“Ночной блуждающий город”, – написал я потом (сейчас понимаю, что излишне красиво).
А над этим блуждающим городом висела невозмутимая, большая, желто-розовая луна. Полная на две трети. Впрочем, невозмутимость, ее была напускной. На самом деле луна с любопытством прислушивалась к земному гулу. Вот тут-то я и вспомнил “оторванное ухо” великана…”
Потом в своем студенческом очерке о романтике целинного бытия написал я так:
“…А над этой россыпью огней, над степью, живущей бессонной трудовой жизнью, висела крупная, спокойная, похожая на оторванное ухо, луна”.
Очерк на кафедре журналистики понравился и был напечатан в многотиражке “Уральский университет”. Но редактор, многоуважаемый и многоопытный Зиновий Абрамович Янтовский не одобрил “оторванное ухо”.
– Оно вносит диссонанс в общую романтическую картину.
Я пытался спорить: мол, ироническая деталь нужна для противовеса излишнему пафосу. Но Зиновий Абрамович был неумолим и “ухо” вычеркнул.
В утешение себе, я потом вставил этот “лунный образ” в две или три своих повести. А лет через двадцать после университета на каком-то творческом семинаре в Союзе писателей напомнил Зиновию Абрамовичу о нашем давнем споре.
– Ну, если бы я знал тогда, что имею дело с будущим прозаиком всесоюзного масштаба, – сказал он, – разве бы поднялась у меня рука…
Это меня утешило. Несмотря на иронические искорки в глазах моего старого наставника.
…Но, Боже мой, куда может занести автора цепь воспоминаний, если он не придерживается заранее выстроенного сюжета! Ведь начал-то я главу с вечера на тюменском дворе, когда возвращался с отцом из кино. И когда похожая на оторванное ухо луна светила над нашим домом номер пятьдесят девять на улице Герцена. И когда у меня, несмотря на эту луну и недавно увиденный фильм, не исчезало грустное предчувствие.
Я знал, что папа скоро уедет.
И он уехал.
И в следующий раз я увидел его только через два года.
5
В ту пору мы с мамой, отчимом и маленьким братишкой жили уже на улице Нагорной, на краю лога.
В нынешнее время лог засажен тополями, а тогда склоны его были голыми. И эти склоны, и крутые берега Туры недалеко от впадения Тюменки были раем для любителей лыж. Особенно те склоны и обрывы, где сходились два больших деревянных моста через лог и через Туру. Куда ни глянь, всюду лыжники: мальчишки, солдаты местного гарнизона, спортсмены в разноцветных свитерах.
А на расчищенном льду Туры со скрежетом и стуком гоняли клюшками плетеные мячики ужасно ловкие хоккеисты.
Как сейчас вижу этот олимпийский праздник – в морозной дымке, под оранжевым закатом, среди нависших снежных круч, над которыми темнеют купола и башни Троицкого монастыря.
Можно было с косогора стремительно съехать на лед, к застывшим, укутанным в снег катерам. А можно было забраться аж до Краеведческого музея и неторопливо катить на лыжах-коротышках сперва по улице Республики, потом свернуть в пролом изгороди к берегу и ехать до моста, а там, сделав вираж у насыпи, выехать на спуск, ведущий к самой реке. Общий путь получался, наверно, с полкилометра…
Однажды я после долгих лыжных приключений оттаивал и сушил у печки обледенелые штаны и ватник. И тут пришел дядя Боря. Вполголоса и почему-то виновато сказал маме:
– Лёля, Петя приехал.
Мама странно выпрямилась, опустила руки. Потом выговорила отчужденно:
– Ну и что?
– Славика хочет увидеть.
Началась суета, меня нарядили как на школьный утренник. А сам я в тот момент никаких особых чувств не испытывал. Кроме радостной догадки, что по причине отцовского приезда можно будет прогулять пару школьных дней.
Отец остановился у дяди Бори – они всегда были большими приятелями. Но вскоре перебрался в гостиницу “Заря” – в проходной каморке было тесно и неловко. Однако он каждый день приходил к дяде Боре, чтобы увидеться со мной. Я с Нагорной приезжал туда на автобусе утром, а домой возвращался совсем поздно. А иногда оставался у дяди Бори ночевать – чтобы не тащиться через полгорода в темноте и холоде.
Мы с папой ходили в кино и в музей, гуляли по улицам, обедали в столовой рядом со старинным рестораном “Сибирь”. Папа расспрашивал меня о школьных делах, о книжках, которые читаю, о друзьях-приятелях. Об отчиме и о моем маленьком брате он деликатно вопросов не задавал. Иногда рассказывал о детстве в Вильнюсе и о том, как он со своей мамой эвакуировался потом в Вятку – началась Первая мировая война. В Вятке еще до революции он и познакомился с девочкой Лёлей – это была моя будущая мама. А еще он хвалил мои стихи, которые я сочинил в чисть недавнего тридцатилетия Октябрьской революции.
Но мне казалось, что при этом отец смотрит на меня из какого-то далёка, слегка отрешенно. Словно хочет что-то вспомнить. Может быть, то время, когда он приезжал к нам не в добротном штатском пальто, а в лейтенантской шинели? Тогда было тревожно, и все же… хорошо. Лучше, чем сейчас.