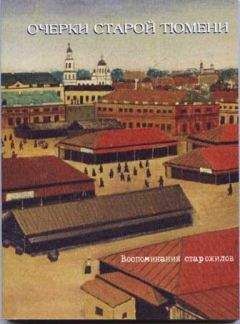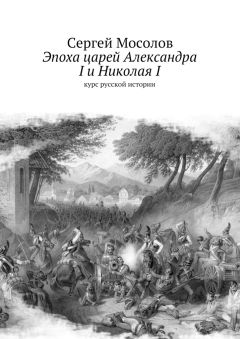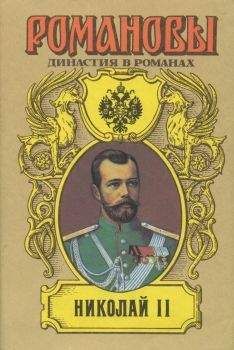Ю. Куликов - Сподвижники Чернышевского
Физические лишения переносились легко. Труднее были внутренние муки. Казалось, он терял самого себя.
В одном он оставался прежним Обручевым — в своей любви к родине, желании блага и свободы народам России и Польши. Как к этому придут они, теперь он не знал.
И еще одну неистребимую черту сохранил он в себе до конца дней — железную стойкость в борьбе за сохранение тайны, вверенной ему однажды.
В Третьем отделении не забыли непокорного отставного офицера Обручева. Атаки продолжались. Кто знает, может быть, каторга развяжет язык бывшему агенту Комитета?
Время от времени перед Обручевым появляется человек в голубом мундире.
— За вас ходатайствуют родные. Мы понимаем боль родительского сердца. Но от вас требуется раскаяние. Полное раскаяние. Назовите же сообщников по делу «Великорусса»!
Ах, как хочется на свободу! Как нужны Владимиру глаза и руки близких людей! Но…
— Я не считаю это для себя возможным!
И так без конца.
Граф Шувалов бесится в своем кабинете на Фонтанке. В 1868 году он шлет в Сибирь два официальных письма о новых предложениях «фанатику» Обручеву. В них он дает слово оставить виновных «безнаказанными», если только…
Что? Слово жандарма? Никогда Владимир Обручев не станет предателем. Лучше смерть!
И из жандармских канцелярий Сибири идут одни и те же рапорты: «Отказался дать показания».
Тяжко на душе у Владимира. Давно нет тайного общества, к которому он принадлежал, и «человек, передавший мне для распространения в публике этого листка, уже ни для кого не может быть опасен», — писал он в своих объяснениях начальству. Многих уже нет на свете. А иные томятся в сибирских острогах. Среди них и дорогой ему человек, Чернышевский. В часы раздумий Обручев нежно смотрит на томик Шекспира в красном переплете. У него на полке три таких томика. Это подарок Николая Гавриловича.
Вспоминались последние беседы с ним, его добрый взгляд, могучее обаяние ума. За Чернышевского он, Обручев, хоть сейчас готов отдать жизнь.
Пролетели двенадцать лет. «Законное облегчение участи». Обручев, наконец, в России. Куда забросила его теперь судьба?
…1877 год. Черноморские штормы качают русские суда у берегов Турции. Идет война. Рядом с русскими солдатами в Балканских горах проливают кровь за свободу братья-славяне.
На море свои потери и свои победы. 29 мая на рассвете русский миноносец № 2 на всех парах идет на сближение с головным кораблем турецкой эскадры. Удар в борт! Взрыв! Миноносец круто разворачивается, посылая залпы в борт неприятельского судна. Кочегар сует в топку огромный кусок сала, и миноносец стремительно ускользает от врага.
Слава! Весь экипаж представлен к награде. Только волонтер Владимир Обручев скромно отказывается от нее.
— Ведь я же ничего не сделал лично! Всего лишь подставил лоб.
Обручев не служит на корабле. Он человек гражданский. Просто выпросил у адмирала разрешение «сходить в дело». Но все равно. 15 июля 1878 года в Одессу, где живет теперь бывший каторжник, приходит бумага. Владимиру Обручеву возвращен его прежний чин поручика. Вместе с чином пришло восстановление во всех правах.
Что это, поворот в жизни?
Нет. Обручев ждал другого. Ему казалось, что победа в войне будет зарей конституционных свобод для России.
— У людей явились общие гражданские мысли и решимость действовать по этим мыслям, — говорил он, восхищаясь патриотическим подъемом военных лет.
Но Россия осталась в старых цепях. И Обручев снова упал духом. Внешне он продолжал держаться. Он покинул свою службу в «Русском обществе пароходства и торговли», куда поступил в 1874 году, после возвращения из ссылки.
С 1880 года началось «пролетарское существование». Так называл он работу журналиста. На страницах «Вестника Европы» и «Отечественных записок» временами появлялись его статьи и повести. Неизменно помогал ему М. Е. Салтыков-Щедрин.
В 1883 году Обручев в качестве корреспондента едет за границу. Париж, Лондон, затем снова Париж. Усилием воли он заставляет себя собирать материал для русских журналов. Но дело не клеится. Внутренняя духовная драма приводит Обручева к глубокому кризису.
«Были мысли, вопросы, порывы, падения, любовь и ненависть, радость и тоска, — пишет он. — Неужели из всего, что пришлось продумать и прострадать, нельзя выжать одной слезы человеческой, которая пала бы на другую душу и зажгла бы в ней огонь решимости быть лучше? Решимость! Настоящая, твердая, осуществимая! Хорошие бы люди из нас выходили, если бы она была в нас!»
Ничто так не толкает к раздумью, как литературный труд. Где же то знамя, за которое стоит бороться? Обручев почувствовал себя в тупике.
Корни трагедии уходили к тем далеким временам, когда жандармы, злорадствуя, показывали ему пакеты с «Великоруссом». То был первый удар по идеалам юности. Крушение наивной веры в разум, силу и честь сословия, к которому он, Обручев, принадлежал.
В кого верить, в народ? Где дорога к нему? Обручев вспоминал гражданскую казнь и ожесточенные лица людей, обманутых полицией. Это был второй удар.
Третьим ударом было общее поражение славной когорты людей, с которой он связал судьбу в 1859 году.
Остальное довершила сибирская ссылка.
Возвращение не помогло ему. Он не заметил на родине ни обновления, ни тяги к нему. Война и ее исход обманули радостные надежды. Рядом не нашлось твердой руки, подобной руке Чернышевского, которая поддержала бы и направила его.
В жалкой мансарде Латинского квартала, а потом в одном из предместий Парижа Обручев испытал всю глубину одиночества. Голод, отчаяние предвещали гибель.
Спасение пришло неожиданно. Николай Николаевич Обручев и его жена вспомнили о родственнике и разыскали его. Они помогли вернуться в Россию.
Николай Обручев, в те времена крупный военный деятель, был уже начальником Главного штаба русской армии. Благодаря его протекции в октябре 1883 года в Петербурге «состоялся журнал» об определении Владимира на военную службу.
Истощив силы в поисках жизненной цели, Владимир Обручев покорился ходу событий.
До 1906 года продолжалась его служба в морском ведомстве. Двадцать два года политической летаргии, оправдание которой он искал в пользе своей службы для родины, закончились уходом Обручева в отставку в чине генерал-майора.
Судьба обоих Обручевых, бывших друзей и сподвижников Чернышевского, была судьбой людей, не вынесших удара, который нанес царизм революционному движению 60-х годов, первому «революционному натиску». Для Владимира Обручева он явился большой личной драмой. И когда настало время подвести итоги жизни, отыскать в ней самые светлые воспоминания, старый генерал обратил взор к эпохе «Современника» и «Великорусса».