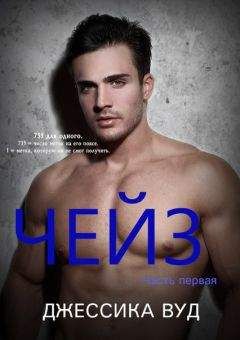Михаил Козаков - Актерская книга
Пытаюсь вспомнить, — когда я полюбил стихи Давида Самойлова? Какое первым запало в память и выучилось наизусть? «Сороковые, роковые…»? Нет, не это… Что же? Его довоенные и военные стихи я узнал значительно позднее, когда уже всерьез увлекся его поэзией. Правда, вполне естественное (во всяком случае, для меня) ощущение отдельности его военной темы от меня, не воевавшего, жившего тогда на Урале, не позволило мне и впоследствии по-настоящему прикоснуться к стихам его фронтовых лет. На фронте воевал и погиб мой старший брат, артиллерист, не я. Присваивать чужие чувства стыдно. А чтец волей-неволей хотя бы на время их неизбежно присваивает. Так что же все-таки «присвоилось» первым? Вспомнил! Конечно же, вот это, о Пушкине: «…и задохнулся: Анна! Боже мой!» Да, именно этим стихотворением я и мучил каждого, кто готов был слушать, — и дома, и в коридорах Ленфильма или Мосфильма, и даже в ресторане. А потом уже пошло — стихи стали запоминаться целыми циклами. Ох и досталось от меня друзьям-собутыльникам! При каждом удобном (и неудобном) случае я читал им — сначала с листа, потом наизусть — все, во что в данный момент был влюблен: «Цыгановых», «Беатриче», «Ганнибала»… А случалось и так — вдруг звонок из Пярну: «Миша, хочешь новый стих послушать?» «Разумеется!» Так я впервые услышал «Старого Дон-Жуана», и мало сказать — обалдел, но тут же попросил продиктовать его мне по телефону и через два-три дня уже читал друзьям наизусть. До этого я читал и играл двух других Дон-Жуанов — гумилевского и мольеровского; с самойловским образовался трилистник, и мне его хватило на всю оставшуюся жизнь. С него я начал свою концертную деятельность и в Израиле, где тоже обнаружил множество читателей и почитателей Самойлова. А сколько таких концертов было в нашей необъятной доисторической! Я исколесил с его стихами всю Россию. Но вот что интересно — больше всего мне запомнились наши совместные выступления. Они были совершенно разными, непохожими друг на друга — этакие вечера-импровизации, своего рода музицирование, которое так любил Самойлов, сам — блестящий знаток музыки. На этих вечерах он всегда читал что-нибудь новое, сочиненное недавно, я же — лишь дополнял, уравновешивал, создавал, так сказать, контрапункт основной теме, на ходу соображая, что для этого уместней всего прочитать. Бывали и вечера больших совместных чтений: Д. Самойлов, Р. Клейнер, 3. Гердт, Л. Толмачева, Я. Смоленский, А. Кузнецова, В. Никулин… Мы заранее уславливались, кто что будет читать, и вечер превращался в своеобразный дружеский «турнир чтецов». Как ни различны были темпераменты и вкусы, поэзия Самойлова всех примиряла друг с другом. Потом, как правило, садились за стол, но и тут еще долго продолжалось чтение стихов или разговор о поэзии. Да, в те годы она еще была нужна людям, и не только самим поэтам или их чтецам. Были еще переполненные залы — Политехнический, ВТО, ЦДЛ, Октябрьский зал Дома союзов… И не только в шестидесятые, но и позже — в семидесятые, даже еще в начале восьмидесятых. А потом все пошло на убыль, и все необязательней стали эти чтения, и сами поэты стали уходить один за другим — «хорошие и разные». Уже давно ушли гении. Последней из них была Анна Андреевна…
Я не знал в тот вечер в деревне,
Что не стало Анны Андреевны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворешен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска…
Потом, говоря словами Самойлова, «жаловали и чествовали» (ей-Богу, не слишком жаловали тех немногих, кто был того достоин!). Чествовали тех, кто «тянул слово залежалое» и умел налаживать себе разного рода чествования. Стало все «разрешено», и безболезненно можно было не искать незаменимые слова, спекулировать чем попало: государственностью и антигосударственностью, почвенностью и беспочвенными рассуждениями, выпендриваться, ныть по поводу и без оного, шить модные штаны за машинкой «Зингер», строчить вирши для молоденьких недоумков, которым в кайф, что пришло время Митрофанушкино: «Не хочу учиться, а хочу выпендриваться!» И пошла эквилибристика в неогороженном пространстве! И критикам лафа: есть о чем поговорить, самовыразиться, напридумывать, благо бумага все стерпит — и Митрофанушкину рифму, и скотининские рассуждения о ней…
Арсению Тарковскому Самойлов писал:
Мария Петровых да ты
В наш век безумной суеты
Без суеты писать умели.
К тебе явился славы час,
Мария, лучшая из нас,
Спит, как младенец в колыбели.
……………………………………….
Среди усопших и живых
Из трех последних поколений
Ты и Мария Петровых
Убереглись от искушений
И втайне вырастили стих…
Три последних поколения. Где черта между ними? Поколение послевоенное: Бродский, Чухонцев, Кушнер, Ахмадулина, Высоцкий. Военное: Слуцкий, Твардовский, Левитанский, Окуджава, сам Самойлов. Довоенное: Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Заболоцкий. Гении начала века: Блок, Анненский, Хлебников — в стихах Самойлова в расчет, очевидно, не берутся. Что же он, и в самом деле считал, что из трех последних поколений только двое «убереглись от искушений»? Но разве Ахматова или Заболоцкий писали «в суете»? Конечно же, он так не думал. Просто гениев он — выносил за скобки. Они «смежили очи». Мысль его, о суете и соблазне искушений, была обращена к соратникам и ровесникам.
Поистине он всегда умел отдать должное настоящему и стоящему, всегда готов был признаться в любви и уважении к собрату, всегда руководствовался чеховским «всем хватит места… зачем толкаться?». Не признавал он лишь тех, кто поддавался соблазну и суете.
Меня, как, уверен, и многих других, всегда интересовал разговор поэтов «на воздушных путях», их диалог «поверх барьеров». Еще Пушкин говорил, что следовать за мыслью великого человека — истинное наслаждение. А если ты еще лично знаком с поэтом, жил с ним в одно время, знал или читал тех, с кем он вел этот диалог, тогда это вдвойне интересно. Невольно сопоставляешь прочитанное со своим восприятием этих людей, с их, своей и нашей обшей жизнью. Есть замечательные, но замкнутые поэты, но я, по чести сказать, будучи сам человеком общительным, предпочитаю поэтов открытых, общительных, ведущих этот непрестанный разговор с соратниками по поэзии. И неважно — живыми или мертвыми. Ведь в каком-то высшем смысле живы все и всегда будут живы — и великие, и малые мира сего. Иногда я это ощущаю почти физически. В этом нет ни мистики, ни модной нынче парапсихологической зауми. Ведь каждый из нас тоже ведет свой непрерывный диалог с кем-то или с чем-то, тоже советуется, вопрошает, кается, делится сокровенным. А когда утрачиваем эту связь, ощущаем себя до ужаса одинокими и беспомощно ничтожными. Вот тогда и говорим: «Боже, Боже, за что ты меня оставил?» Тогда-то начинает по сто раз на дню прокручиваться в моей памяти: «И я подумал про искусство: а вправду — нужно ли оно?» Так приходит черная депрессия.