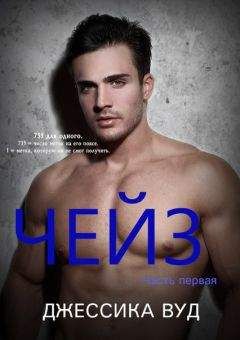Михаил Козаков - Актерская книга
Мне кажется, что в такие минуты первых застольных чтений он уже понимал, «какое привалило счастье». Этим-то ниспосланным свыше счастьем и осознанием этого Дара в себе он и держался в своей многотрудной и суровой жизни. Не случайно так боялся немоты:
Уж лучше на покой,
Когда томит бесстишье.
Оно — великий пост.
Могильное затишье.
И, двери затворив,
Переживает автор
Молчание без рифм,
Страданье без метафор —
Жестокая беда!
Забвение о счастье.
И это навсегда.
Читатели, прощайте.
К счастью, «великий пост» продолжался у него недолго. В сущности, то была не столько немота, сколько необходимое любому художнику время интенсивнейшей внутренней, душевной работы. Не случайно после каждого такого затишья, как правило, снова следовал поток стихов. Так, летом 1985 года, когда мы с женой в очередной раз жили в Пярну по соседству с Самойловыми, я буквально каждое утро слушал новое стихотворение из цикла «Беатриче».
Много позже в белом двухтомнике Давида Самойлова я увидел маленькое предисловие автора: «Откуда Беатриче? Да еще не под синим небом Италии, а на фоне хмурой Прибалтики?.. Один критик, сторонник поэзии «простодушной», уже успел обвинить меня в книжности, наткнувшись в моем цикле на имена Беатриче, Лауры, Данте, Петрарки и Дон-Кихота…» И чуть выше: «Мой цикл сложился как ряд переживаний, связанных с категорией чувств…»
В чем дело? Почему Самойлов счел нужным пускаться в объяснения? Ведь обычно он никогда не отвечал на критику, не вступал в литературную полемику на страницах газет, был в этом отношении крайне брезгливым, почти высокомерным. А вот, гляди-ка, по поводу «Беатриче» объяснился. Кратко, изящно, однако не пренебрег несколькими фразами.
Думаю, это было связано с теми спорами, которые шли в нашей доперестроечной критике о творчестве «позднего» Самойлова. Литературоведение — не моя епархия, поэтому рискну высказать всего лишь одно соображение, основанное на наших с ним неоднократных разговорах. Нет, не то чтобы Самойлов излишне нервничал, не доверяя себе «новому»: просто он знал, что читатели (и критики в том числе), как правило, предпочитают привычное. Мне этот феномен известен по выступлениям на эстраде: хочешь успеха — составь программу так, чтобы рядом с новым и сложным прозвучало и что-нибудь такое, что слушатель знает чуть не наизусть… Отсюда и попытки «объяснения с читателем» у позднего Давида Самойлова. Давние его стихи, что уже прочно были на слуху, привычная музыка и тон мешали многим понять и принять новое в его стихосложении.
Язык еще не обработан,
Пленяет мощным разворотом
Звучаний форм и ударений —
В нем высь державинских парений…
Самойлов — поэт культурных традиций. И не просто традиций — он в постоянном диалоге и с классикой: Данте, Петраркой, Державиным, Пушкиным и с поэтами-современниками. Когда читаешь позднего Самойлова, когда вслушиваешься в этот его диалог с теми, кого он любил, ценил и к кому прислушивался сам, это открывает многое в «повести поколения» и помогает понять и осознать самого себя. А ведь мы, читатели, в конечном счете жаждем понять себя и то, что с нами происходит во времени и пространстве.
И вот я встал, забыл, забылся,
Устал от вымысла и смысла.
Стал наконец самим собой,
Наедине с своей судьбой.
И стал самим собой, не зная,
Зачем я стал собой. Как стая
Летит неведомо куда
В порыве вещего труда.
«Стать самим собой…» Здесь не только перекличка с Гете, но и подспудный диалог с Арсением Тарковским, у которого есть стихотворение с тем же названием. А в подтексте — грустное, типично самойловское «Зачем?». Ну, стал, а — зачем?
Нет, еще не прочитан, не оценен до конца поздний Давид Самойлов…
В одном из почти сотни пярнуских писем Самойлова, которые у меня хранятся, — лестный комплимент: «Очень жду твоей прозы. Уверен, что ты выдающийся мемуарист. Если помнишь, ты однажды читал мне кусок ленинградских воспоминаний с письмами Эйхенбаума. Было весьма интересно».
И еще во многих его письмах — о моем якобы «легком пере». Однажды, обнаглев от его похвал, я даже рискнул зарифмовать ему что-то в письме — разумеется, в шутку, ибо всерьез я не написал, а уж тем более не напечатал ни одной стихотворной строчки, Бог спас, что называется. Но тогда просто «подперло»: не выпускали на экран сразу два моих телефильма, «Покровские ворота» и «Попечители», а тут — письмо от Самойлова, да еще в стихах! Впрочем, он часто писал такого рода шуточные послания. Прозой, видать, было лень, а в стихах слова «как солдаты…».
Михал Михалыч Козаков,
Не пьющий вин и коньяков,
И деятель экрана.
Как поживаешь, старина,
И как живет твоя жена,
Регина Сулейманна?
Уж не зазнался ль, Михаил?
Иль просто ты меня забыл?
Иль знаться неохота?
Ты, говорят, стяжал успех,
Поскольку на устах у всех
«Покровские ворота».
А я успеха не стяжал,
Недавно в Вильнюс заезжал,
Отлеживался в Пярну
(Поскольку я еще не свят),
И потому, признаюсь, брат.
Живется не шикарно…
Все время гости ходят в дом,
Свои стихи пишу с трудом,
Перевожу чужие.
А перевод не легкий труд.
Весь день чужие мысли прут
В мозги мои тугие.
К тому ж в июне холода,
В заливе стылая вода,
Померзла вся картошка.
Как тут не выпить, Мигуэль?
На протяжении недель
Все веселей немножко.
Пиши, пиши, мой милый друг,
Весьма бывает славно вдруг,
Как в душе пребыванье.
Пиши, а я пришлю ответ.
Поклон от Гали и привет
Регине Сулейманне…
А у меня на душе было ох как хреново! «Покровские ворота» только и смог показать близким знакомым в зале Мосфильма да на премьере в Доме кино, а дальше — сплошное «непроханже», и не только «Воротам», но и другой моей работе — по комедии Островского «Последняя жертва», и поди ж ты, тоже с участием Лены Кореневой. Вот про все, что приключилось, я ему и отписал — в его же размере и стиле:
Пярнуский житель и поэт!
Спешу нашрайбать вам ответ
Без всякой проволочки.
Хоть труден мне размер стиха,
К тому же жизнь моя лиха,
И я дошел до точки.
Я целый год снимал кино
Две серии. И сдал давно
(Не скрою, сдал успешно).
Потом комедию слудил
Островского. И в меру сил
Играют все потешно.
Кажись бы, что тут горевать?
Нет! Как на грех, едрена мать,
Случилась катаклизьма:
Я целый год потел зазря,
Артистка Коренева — фря! —
Поставила мне клизму!
Американец и русист
(Чей предок, верно, был расист)
Заводит с ней романчик.
К замужеству привел роман,
И едет фря за океан,
За Тихий океанчик.
Я две работы сделал, друг.
Она сыграла роли в двух,
Заглавнейшие роли!
На выезд подала она,
И в жопе два моих кина,
Чего сказать вам боле?
Шуточная эта переписка имела продолжение. История с Кореневой как-то рассосалась, вышли в свет «Попечители», потом «Покровские ворота», и я вновь получил от Самойлова стихотворное послание: