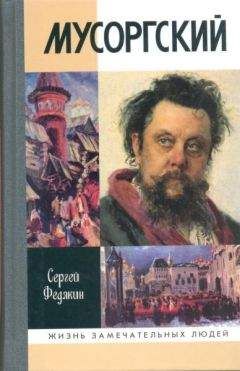Скрябин - Федякин Сергей Романович
Не случайно как довод Энгель вспомнил именно «тему мистицизма» из «Божественной поэмы». К «Экстазу» было придраться труднее: здесь темы точнее соответствовали своим названиям. Они превратились в сжатые формулы. «Атомы» одной темы могли лечь и в основание другой. Скрябин заговорил здесь в полную силу не только на языке «тем», но и на языке «интонаций», своего рода «музыкальных подмигиваний». В «Поэме экстаза» критики уловили-таки главную ее силу: не «сумма тем», но их развитие и «скрещивание». «Поэма экстаза» уже не стремилась своим тематизмом «услаждать» слух, ее задача была — заразить ощущением творчества, творческого подъема. И не так уж важно, как называлась та или иная тема Скрябина. Он достигал настоящих философских глубин только через музыку и никогда через голое слово. Название тем — это лишь намеки, а не обозначения. «Тему воли» в «Поэме экстаза» можно было бы назвать и «темой усилий», и еще как-нибудь — суть «музыкофилософии» от этого не изменилась бы. Тема — при любом названии несла в себе завоевательную энергию, и эта энергия определяла всё.
Между прежним Скрябиным и новым пролегла пропасть — это было первое отчетливое ощущение. Но в концертах звучал и ранний Скрябин. Чуткие уши услышали родство Скрябина ранних фортепианных произведений и нынешнего дерзостного обновителя музыки. «Выпуклая игра композитора доказала, что самые смелые его вещи, как «Поэма экстаза», вытекли из менее сложных произведений первой эпохи», — заметит Коптяев после одного из концертов. Энгель нарисует картину превращения Скрябина ранних симфоний в автора «Экстаза»:
«Сгустите сеть переплетающихся голосов так, чтобы каждая лиана обвилась вокруг другой до непроходимости девственного леса; изгоните консонанс и дайте диссонансу всевластно воцариться в мириадах старых и новых сочетаний; доведите хроматическую оргию пряных гармоний до кошмарных границ неуловимости, неведомых и Вагнеру; заставьте море оркестра переливать все новыми оттенками звучностей, от страстных, нежных вздохов до потрясающего, прямо оглушающего массового рева; уничтожьте каденции; смешайте тысячу ритмов и дайте парить над ними задыхающейся спазматической синкопе. Но этого мало. Подчините весь этот хаос какому-то железному закону, который трудно формулировать, но который чувствуется и несомненно существует; облеките это творчество, полное полубредовых сновидений, в реальные художественные формы; утончите и усложните исконную растерзанность экстатических скрябинских настроений; теснее сомкните четыре стены; от «верхних десяти тысяч» поднимитесь до самых верхних десяти десятков или десяти сотен, — и тогда понемногу перед вами начнет вырисовываться творческая физиономия нынешнего Скрябина, нового, ни на кого уже не похожего».
Некогда композитор был порывист и ласков в своей музыке. Теперь — в оркестровых вещах — стал громогласным, «неуютным». Но и завораживающим. Он поражал и кажущейся хаотичностью, и ощутимой внутренней логикой своего «хаоса». Он раздражал быстрой сменой тем и настроений, но давал ощутить и «нерушимо твердые формы» этого вечного становления. Критики тянулись к его музыке и одновременно шарахались от нее. Нагромождение звуков смущало. Они брались за партитуры и вдруг видели совершенную ясность там, где на слух мерещилась невнятица.
«В лице его мы имеем художника, имеющего свой стиль, свой покуда неясный, но вполне ощутимый «канон» творчества, — не столько «делает вывод», сколько исповедуется Григорий Прокофьев. — Почти никогда Скрябина не упрекнешь в том, что у него имеются излишние нагромождения мелодические, диссонансы и пр. Вот попробуйте «исправить» его грамматические или логические погрешности, и вы увидите, что ошиблись вы, а не Скрябин».
Трудность первого исполнения — точно увидеть в партитуре и точно озвучить «тематические сцепления». Когда «Поэмой экстаза» будет дирижировать Кусевицкий, когда она вообще станет «привычнее» для уха, ощущение «хаоса» уйдет. Пока чистоту голосоведения можно было только «изучить».
Быстрая смена тем и настроений не позволяла расслышать детали, сочетание голосов. И Григорий Прокофьев скажет о пагубном «динамизме» скрябинской музыки, которую можно по-настоящему услышать, лишь проштудировав ее нотную запись или исполняя, а не просто слушая. Энгель заметит, что стремление «развести» невнятицу в сплетении тем и подтолкнуло Скрябина от фортепиано к оркестру: разнообразие тембров делает музыку Скрябина более понятной, а 5-я соната потому и звучит «смазанно», что в ней нет тембрового различия.
Вопрос Григория Прокофьева — «не является ли музыка Скрябина лишь временно неясной, «музыкой будущего» в лучшем смысле этого слова?» — прозвучал не без сомнений. Но не прозвучать он не мог. Что не может уловить современная публика, наверное, сумеет услышать тот, кто «раскрепостит» свой слух.
Из рецензентов почти никто не стал «слушателем будущего», даже самые чуткие застывали в состоянии вопроса. Живой слушатель не знал этих сомнений. Энгель, и восхищенный «Поэмой экстаза», и ужаснувшийся ею, мог сказать: «Огромная, новая, потрясающая музыка, но и проклятая». Публика страха не знала. Кто не мог принять эту музыку — покидал зал. Кто оставался — чувствовал только всесокрушающий восторг и завершал концерты громом оваций. В камерных выступлениях композитора ему приходилось ёще подолгу играть на бис для самых «отчаянных» почитателей. Они подступали к сцене и ловили каждую ноту, каждую «тень» от ноты, оживавшую под скрябинской педалью.
«Нигде — ни за границей, ни в России — сочинения его не привлекали столь напряженного общего внимания, как у нас». Слова критика о москвичах выхватили общее впечатление. Скрябин был признан — со всей очевидностью, хотя и со всякими оговорками, — «номером первым» среди композиторов, живущих в России. Родной город становился главной опорой в его последующем творчестве. Он завоевал свою аудиторию. Продолжать восхождение к «Мистерии» ни в Брюсселе, ни в Женеве, ни в Лозанне не имело смысла. Теперь Москва слушала его с куда большей жадностью, чем Европа, она готова была внимать каждому его звуку.
* * *
Странным образом успех Скрябина наложился на разрыв отношений с тем человеком, который невероятно много для этого успеха сделал. Знал ли он, что приглашение от дирекции Русского музыкального общества в Россию — не только «дело рук» Маргариты Кирилловны Морозовой, одного из членов этой дирекции, но и результат ее согласия на многие денежные расходы? Шум прессы, переполненные залы, восторженная толпа молодежи — всего этого не могло быть без общего ощущения значительности творчества композитора. Но и без стараний Маргариты Кирилловны тоже.
Конечно, роль «первой скрипки» в нелепой размолвке сыграла Татьяна Федоровна. Экзальтированная от природы, она любую случайность могла для себя истолковать как пренебрежение. Ведь на Морозову столько возлагалось надежд в переговорах с Верой Ивановной, переговоры же не дали ничего. Как тут человеку, обостренно воспринимающему каждый враждебный шаг, враждебный взгляд, враждебный шорох, не заподозрить неладное? Вера Ивановна словно нарочно старается играть одного Скрябина, а Маргарита Кирилловна всегда столь подробно рассказывает именно о ее концертах. Значит, подругой осталась, но повлиять на нее не хочет?
Если вчитываться в воспоминания Морозовой, то все произошло почти случайно. На самом деле — неизбежно. В письме к другу, Евгению Николаевичу Трубецкому, Маргарита Кирилловна напишет: «Вожусь со Скрябиным, хожу его слушать очень часто — он много мне дает! В основах и вообще во всем кредо мы чужие с ним! Но в переживаниях, красках, подъемах — он мне близок и мил!» Ее волновала лишь музыка Скрябина, он же всегда хотел большего. Ей «вселенские проекты» композитора были неясны, хотя в них тоже было что-то захватывающее дух. Но когда этот ребенок, мечтающий «взорвать Вселенную», стал говорить о чем-то конкретном — о храме в Индии, когда мечта его стала превращаться в дикую утопию, — Маргариту Кирилловну она уже не столько увлекала, сколько пугала. Кусевицкий, только-только сдружившийся со Скрябиным, на все эти «проекты» мог смотреть снисходительно. Маргарита Кирилловна слишком хорошо знала Александра Николаевича, в мечтах доходившего до фанатизма, чтобы обманывать его притворным согласием.