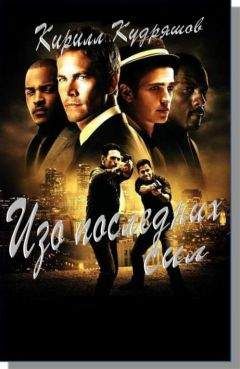Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца)
В начале августа 1996 года в деревню приехали Лена с Соней, Сережа, Маша и я. Я вымыла дом и посуду, Лена приготовила торжественный обед с пирогом, украшенным лесными ягодами: черникой, брусникой и малиной. На столе стоял букет ромашек и колокольчиков, собранный Машей и Соней. Как только мы сели за стол, из соседней деревни, где заканчивали свой век два жилых дома, но в одном из них был проведен телефон, прибежала женщина и сказала, что Татьяну, то есть меня, зовет на переговоры мама. С замирающим сердцем я побежала вслед за ней, что-то случилось. Слабым голосом мама сказала, что умер Саша, что ей плохо, и я должна от семьи ехать на похороны.
Саша подорвал здоровье в еще 1991 году, когда с началом перестройки в нашу страну из-за океана в большом количестве посылалась «гуманитарная помощь». В составе этой помощи были и новые американские лекарства, а также спирт «Роял». В первую очередь эти «подарки» дошли, конечно, до врачей. Зимой того года Саша заболел гриппом, и Полина пролечила его американским антибиотиком, мало известным в России и не опробованным на больных. В конце лечения брат решил ускорить процесс исцеления и выпил водки. В результате он чуть не умер и умер бы, если бы не работал в клинике. Его отправили на гемодиализ, говоря непрофессиональным языком, профильтровали всю кровь. На этот раз его удалось спасти, но врачебное заключение требовало, чтобы он больше не пил. После такой встряски он и не пил некоторое время, потом попробовал немножко — обошлось, и он вернулся к привычной жизни. Я не могу осуждать своего брата. Когда я навещала его и однажды лечилась в его клинике, я видела, что все врачи пьют, кто больше, кто меньше. Самое ужасное, что пьют они и на работе (все те же подношения и доступность медицинского спирта). Так было и с Сашей, сначала из-за проблемы с питьем его отстранили от операций, что было для него страшным ударом. Однако это не остановило его. Затем его перевели в поликлинику на прием амбулаторных больных, и, в конце концов, ему пришлось совсем оставить любимую работу. Это была уже трагедия не только для него самого, но и для его семьи. На гемодиализ он попадал еще дважды, в последний раз после похорон отца. Я говорила с ним, умоляла изменить образ жизни, ведь ему реально угрожала гибель. Он мне ответил, что не хочет жить, что бесконечно устал от операций, от ответственности за чужие жизни. Их клиника работала, как больница скорой помощи, и ему часто приходилось дежурить сутками и многими часами стоять у операционного стола. Его сломал этот постоянный конвейер из битых, резаных, разорванных, изнасилованных, искалеченных людей. Он стал представлять, что это могли бы быть его родные и знакомые. Уйти от этих мрачных мыслей и впечатлений он мог только с помощью алкоголя…
Мы все знали, что все кончится его гибелью, но, даже зная, никто не ждет смерти родного человека. С момента маминого звонка я как будто застыла, я как-то страшно сосредоточилась на том, что мне необходимо было как можно скорее добраться до Архангельска. Тем более что мне сказали, что он еще не совсем ушел, что его держат на аппаратном дыхании, и это будет продолжаться, пока я не приеду. Я встала со стула и пошла. Я пошла на автобус на трассе, и он тут же подобрал меня, как по заказу. В Вологде я заехала домой, быстро собралась и отправилась на вокзал, где в кассе меня ждал единственный оставшийся на Архангельск билет в вагоне СВ. Я лежала на полке в купе и ни о чем не могла думать. Под утро я задремала и вдруг, когда забрезжил рассвет, почувствовала — что-то не так. Я резко открыла глаза, и меня охватил такой ужас, что я не могла пошевелиться. Так бывает, когда снится кошмарный сон, ты знаешь, что это сон, но не можешь проснуться, хочешь крикнуть, рот открывается, но горло не издает звуков, хочешь поднять руку и ущипнуть себя, но рука не слушается. Передо мной на уровне глаз висело нечто похожее на вырванный из привычной среды кусок раскаленного воздуха с неровными краями, колеблющийся и издававший невыносимый писк, громкий и злой. Это нечто будто хотело сказать мне: «Скорее, скорее, я больше не могу ждать!» И как во сне, мне наконец удалось сбросить с себя оцепенение и сесть. Не знаю, что это было, но это было ужасно. Долго еще часто билось сердце, и я глубоко дышала, чтобы успокоиться. В окне вагона брезжил рассвет, часы показывали три утра. Больше спать я не могла.
Полина встретила меня на вокзале, и мы сразу поехали в больницу к Саше. Я вошла в палату и увидела его на широкой реанимационной кровати, подключенного к аппарату, села сбоку и взяла за руку. Рука была теплая, живая, и весь он лежал такой красивый, казалось, кожа его дышала, ни морщинки не было на лице, прекрасные густые волосы мягкой волной падали на высокий лоб. Во всех чертах разливался покой, все беды и тревоги оставили его.
Я поцеловала его в лоб, поцеловала его красивые руки и простилась с моим любимым младшим братом, который не захотел больше жить, потому что ему показалось, что он изведал все, что ему было предназначено. Он, как будто почувствовал, что я уже рядом, что мы попрощались, и тихо ушел в небытие.
Мы с Полиной пошли на набережную реки Двины и до вечера ходили по ней и, то молчали, глядя на эту огромную массу воды, то вспоминали нашего Сашу.
На следующий день было сначала прощание с ним в больнице, где мне пришлось несколько часов стоять рядом с гробом, потом отпевание в церкви, в которой служил Сашин друг, отец Василий, его бывший больной. Я начала плакать во время прощания. Слезы лились потоком сами по себе, их невозможно было остановить, поэтому я никого не видела, только чувствовала, как какие-то люди мне пожимают руку. Мне стало лучше на отпевании, слезы стали легкими. Теперь я знаю, что отпевание нужно не только усопшему, но и любящим, оно делает боль утраты не такой жестокой.
С годами жизнь в нашей деревне замедлялась и как будто шла на убыль. Постепенно перестали приезжать механизаторы, земли вокруг запустели, а лес начали беспощадно вырубать местные жители и заезжие артельщики с Украины, которым было разрешено заниматься лесозаготовками в обмен на комбикорма. Те и другие промышляли лесом хищнически, оставляя после себя мертвую землю, с высокими пнями, заваленную ветками и тонкими верхушками деревьев, не имевшими ценности на диком тогдашнем рынке. Вырубки быстро затягивало сорным кустарником и травой. Отходы порубок гнили и на их месте несколько лет не росли ни грибы, ни ягоды, только тучи слепней гудели над ними летом, как мухи над помойкой.
Как-то быстро состарились и начали уходить наши коренные деревенские жители. Первой в одну из зим умерла бабушка Сима. Еще летом была здоровой и потихоньку копошилась в огороде, где у нее единственной кроме картошки и лука росли цветы. Ее дом безуспешно пытались продать городские родственники, и он вслед за хозяйкой окончательно перекосился и осел, как будто понял, что жизнь для него кончилась.