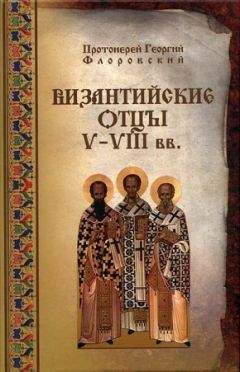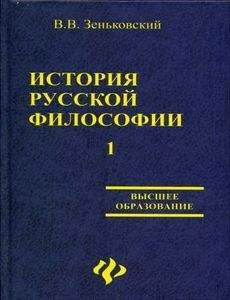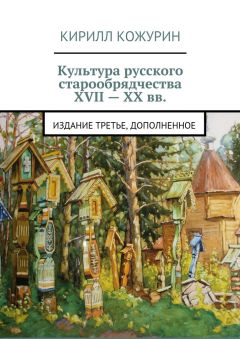Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Сватовство принесло гордости Пушкина ряд унижений, а супружество с едва распустившейся юностью принесло ему много житейских забот, труда и усталость физическую и нравственную. В то же время на этот роскошно распускающийся цвет, окруженный славою мужа, налетел целый ряд шмелей, пробавляющихся чужим медом, произведя несносное для уха и сердца мужа жужжание. Им оставалось только указывать на прошлое супруга, который нарушил столько супружеских союзов и сам же разблаговестил об этом по всему свету, оскорбляя и нравственность и приличие, рыцарскую почтительность к слабому полу и простую общечеловеческую справедливость. Давно призываемая им смерть стала у него за плечами. И на этот раз у него не оказалось христианского смирения. Он принял вынужденный им самим вызов на дуэль, оказавшись и здесь сыном века, угодником мира сего, каким был издавна, и сам себе изрыл яму погибели. Игра в жизнь и смерть на этот раз не прошла ему даром, и глупая пуля, пущенная не особенно мудрою и потому не дрогнувшею рукою, нашла виноватого и свалила гордого и в эту минуту своим упорством мудреца. Да и в эту роковую минуту ему мало стало быть убитым самому; ему непременно захотелось быть еще и убийцею. Так раздраженно-ревнивый супруг, над каковыми поэт в прежнее время едко и забавно смеялся, теперь крайне неравнодушно отстаивал свое собственное семейное счастье и наказан за нарушение счастья чужого, к которому прежде являл столько веселого и коварного равнодушия. Да, действительно, грех гнался за ним по пятам его, как лев, и растерзал его своими когтями. Осталось только испустить дух, предав его в руце ли Божии или же врага Божия, исконного человекоубийцы.
Но, по слову святого апостола Петра, человеколюбец Бог иногда тяжко наказывает людей в этой жизни, нередко даже наказывает безвременной мучительной смертью, с особой спасительной целью подвергшись суду по человеку плотию (пострадав во плоти), жили по Богу духом (1 Пет 4, 6). Так – мы верим – в часы своей мучительной кончины тяжко пострадал и наш поэт Пушкин, смерть которого хотя была и не безболезненная и не мирная, но все же христианская.
В кончине Пушкина, подробно рассказанной преосвященным Никанором по описанию Жуковского, мы отметим следующие назидательные моменты.
Прежде всего Пушкин отдавал себе ясный отчет в том, что он умирает, следовательно, его смерть, озаренная ярким и в подобные минуты особенно обостренным сознанием, являла уже сама по себе страшный суд совести.
В этом сознании умиравший поэт охотно согласился исповедаться и приобщиться Святых Таин. Страдания его перед этим были поистине ужасны, но он, не теряя сознания, проявлял в них необычайное мужество.
Исключительно сильное впечатление на умиравшего поэта произвело письмо государя Николая Павловича, который имел основание преподать ему совет исполнить христианский долг, то есть исповедаться и причаститься. Это основание, как говорит архиепископ Никанор, заключалось, без сомнения, в половинчатой вере поэта, перемешанной с неверием и заглушаемой многими заблуждениями ума и сердца.
Христианский долг умиравший Пушкин исполнил с должным смирением и благоговением. Поздравление государя по этому поводу, переданное им через Жуковского, дало поэту огромное утешение.
Дальнейшие и ужасные страдания Пушкина довершают очистительную работу в его душе, и он на вопрос секунданта о его убийце говорит твердо: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином».
В свете этого ясно выраженного прощения врагу можно видеть, в каком расположении ума и сердца окончил свою жизнь Пушкин. В нем ясно звучит покаянная молитва евангельского блудного сына: Отче! я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостоин называться сыном Твоим; приими меня в число наемников Твоих (Лк 15, 18–19). И мы знаем, что Отец Небесный услышал молитву Своего раскаявшегося и любимого сына.
В заключение архиепископ Никанор говорит, что величайший наш поэт был действительно любимый сын Отца Небесного, был в жизни сын заблуждающийся, а в тяжкой смерти сын кающийся; что он родился христианином, жил полухристианином и полуязычником, а умер христианином, примиренным со Христом и Церковию.
Такова оценка великого русского поэта, прозвучавшая с церковной кафедры и, следовательно, с церковно-православной точки зрения. Как на особенность этой точки зрения следует указать на центральное положение в ней личной судьбы Пушкина. «Христианство, – говорит архиепископ Херсонский Никанор, – о всяком умершем молит Бога, чтобы благий человеколюбец Бог простил почившему всякое согрешение, содеянное словом, или делом, или помышлением: яко несть человек, иже поживет и не согрешит». Молясь о душе поэта, мы должны знать и его жизнь и его дела, назидающие нас и питающие нашу молитву о нем. Не нужно бояться оскорбить память умершего воспоминанием его падений и заблуждений, ибо «нельзя говорить о жизни и деяниях апостолов Петра и Павла, царей Давида и Соломона, не касаясь Петрова отречения от Христа, Павлова гонения на Христа, Давидова Покаянного псалма: Помилуй мя Боже, и Соломонова Екклесиаста, с обстоятельствами, при которых Покаянный псалом и Екклесиаст написаны. Тем более что Пушкин сам завещал свои мысли и чувства, дела и слова памяти потомства».
Но эти слова и дела, мысли и чувства поэта не живут в нашей памяти пассивно: они, облеченные в прекрасную форму, действуют на наше воображение и волю, создавая в нас те или иные, то есть нравственные или безнравственные, побуждения как причину уже нашего настроения и поведения. Поэтому преосвященный проповедник выражает особенную молитвенную заботу о том, чтобы над нашим поэтом не отяготел небесный приговор за то, что он «в приманчивый, в прелестный вид облек и страсти и порок» (из басни-притчи И. А. Крылова «Сочинитель и разбойник»). Но проповедник верует, как веруем и мы, что бедственная кончина поэта, полная очистительных страданий, явилась спасительной мерой божественного человеколюбия. В таком случае молитва о Пушкине должна перейти в молитву о нас самих, о том, чтобы с его примера не разливался между нами языческий культ.
В этой молитвенной заботе преосвященного Никанора кроется огромный религиозный смысл, предостерегающий нас от чисто эстетической оценки творчества Пушкина. Пусть оно отмечено печатью высокого гения, но его создания мы должны принимать к сердцу только в свете нравственной оценки, которая выше всякой другой уже потому, что она осмысливает поэзию Пушкина прежде всего как историю его души. А история эта не столь благополучна, как изображает ее наша школьная наука. Напротив, в пушкинских мотивах, продиктованных нравственным состоянием поэта, заложены все тревожные темы последующей русской литературы, родоначальником которой справедливо считается Пушкин. Одна из самых тревожных, самая главная тема, доминирующая в русской литературе, – это тема о блудных сыновьях и дочерях из нашего образованного общества, тема, с особой силой воплощенная в творчестве Ф. М. Достоевского.