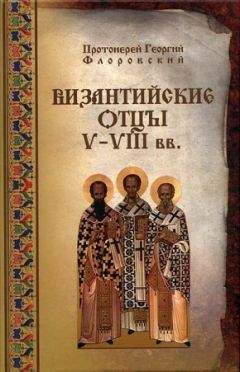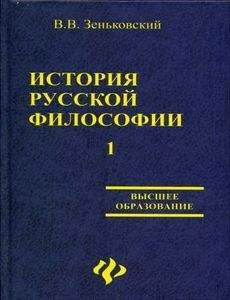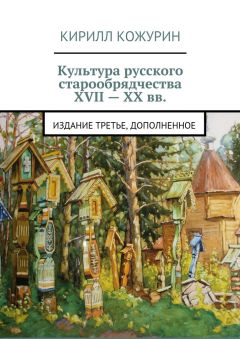Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Таким образом, нравственная порча поэта и окружающей среды усугублялась. «Мы видим в этой поэзии не только обнажение блуда, не только послабление ему, но и одобрение его в принципе, но и воспевание его в обольстительных звуках, – с горечью говорит архиепископ Никанор, – в этом направлении ниспадение его [Пушкина] делом, мыслию и острым, метким словом простиралось, по-видимому, до последних крайностей».
Удаление от дома Отца Небесного ведет Пушкина еще к большим и особенно соблазнительным заблуждениям. В Татьяне, признанной образцом высокой нравственности, преосвященный Никанор видит не идеал христианской женщины, а предмет, достойный жалости сердца. «Состоя в супружестве, – говорит проповедник, – она всею душою, сердцем и помыслами принадлежит предмету своей страсти, сохраняя до сей минуты для мужа верность только внешнюю, о которой сама отзывается с очень малым уважением, чуть не с пренебрежением». И действительно, как далеко мы отклонились от идеала истинно христианского брака, который является «слиянием двух существ в единую плоть и душу, в единого человека».
«Грехи в одиночку по миру не ходят, но один поведет с собою и другие, – продолжает архиепископ Никанор. – Поклонение Киприде не могло не вести за собою поклонение и Вакху и всем языческим божествам». Дух эпикурейского отношения к жизни, владевший поэтом в первую половину его жизни, ясно изобличает его душевное идолопоклонство. Классическое язычество, возрожденное Пушкиным в поэзии и соединенное с соответствующей жизненной практикой, пожалуй, и не могло бы иметь лучшего выражения.
Пушкин этого периода явно тяготел и жизнью, и словом к язычеству. Имена Вакха и Аполлона, Киприды и Купидона, муз и харит в его произведениях были не только литературными образами, но и предметами его внутренних страстей и влечений. «Было в этой поэзии, не скажу, мысленно-словесное отрицание христианства, – говорит владыка Никанор, – но хуже того, было кощунственное сопоставление его с идолопоклонством, кощунственное приурочиванье его к низменному культу низших языческих божеств, причем необузданность ума и слова играла сопоставлениями священных изречений с непристойными образами и влечениями».
Но «этого мало. Вслед за песнями в честь языческого культа наш поэт воспевает и все страсти в самом диком их проявлении: половую ревность, убийство, самоубийство, игру чужою и своею жизнию…» И всякая страсть, рисуемая гигантской гениальной кистью, приобретает в изображении поэта особую привлекательность, возбуждает к себе и своим носителям сочувствие и жалость. «Его полудобродетельная Татьяна возбуждает такую же жалость, как и безнравственный Онегин, как и пустой и легкомысленный Ленский; удалой самозванец Пугачев – так же, как и жертва его зверства, бесстрашный самоотверженный капитан со своею душевно-привлекательной дочерью; мудрый, но преступный и злосчастный Борис – так же, как и отважный до дерзости, изворотливый Лжедмитрий. Это потому, – объясняет архиепископ Никанор, – что все они милые сердцу дети его воображения, что у него всякое страстное влечение есть идеал, есть культ, есть идол, которому человеческое сердце призывается приносить себя в жертву до конца».
Таким образом, все свои дарования, силы и чувства поэт посвятил похоти плоти, плотскому душевному человеку, миру и князю мира сего – таково суровое заключение проповедника, который смотрит в самый корень греха и не знает компромиссов с совестью. И он прав в определении болезней духовно-нравственной природы Пушкина, хотя тон его суждений и кажется нам резким и суровым. Пушкин вовсе не был таким внутренне уравновешенным и благополучным, как это изображают почти все его истолкователи в нашей литературе. Правдивый и искренний в своих поэтических излияниях, он дает в них живую историю своего духа, во всех его достоинствах и немощах, во всех падениях и взлетах. Пусть поэтическая правдивость поэта изобличает его неразборчивость в выборе предметов поэтического воспевания, пусть она обнажает его соблазнительные влечения и страсти, но зато эта открытая правдивость сообщает пушкинской поэзии значение и силу исповеди, облегчающую ему нравственную борьбу и имеющую глубокий назидательный смысл для читателей. Та же поэтическая правдивость позволяет нам оценить одно неожиданное свойство художественного гения, способного облекать в прекрасные и привлекательные формы не только добро, но и зло, которое в этом виде делается особенно соблазнительным. Вот почему «у нашего поэта всякая букашка имеет право на жизнь в Божием мире, всякая страсть имеет право на развитие и процветание, лишь бы она цвела и развивалась и давала привлекательно-поразительный предмет для сильной поэтической кисти». Таково действие могучего художественного дарования, которое, таким образом, особенно нуждается в руководстве нравственной воли человека. В противном случае оно и в самом деле, добру и злу внимая равнодушно, может служить выражению и воспеванию самых низменных и темных свойств нашей греховной природы, как и видим мы это во многих произведениях Пушкина.
Прелесть поэтического выражения делала самые низменные страсти и влечения предметом любования и для самого поэта, часто возводила зло в перл поэтического создания и тем самым превращала искусство поэзии в самоцель, далекую от нравственной оценки поэта. Отсюда возникало порывистое угодничество Пушкина перед миром, да прежде всех и всего перед собою и своими страстями. «Это угодничество, – говорит архиепископ Херсонский Никанор, – было стремлением великомощного духа не к центру истинной жизни, к Богу, а от центра по тысяче радиусов, в погоне за призрачным счастьем, за удовлетворением разных похотей, сладострастия, славолюбия, гордыни, было стремлением от центра духовной жизни к противоположному полюсу бытия, во власть темной силы или темных сил…»
И, подобно блудному сыну, «скитаясь вне отеческого крова, поэт усиливался прилепляться то к одному, то к другому из жителей тоя страны и, терпя всякие беды и лишения, вынуждался, по евангельскому изречению, пасти самые низменные пожелания…»
Но настает, наконец, момент небесного посещения встревоженной падениями совести, и поэт «в себе же пришед, рече: колико наемников Отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю». Начинается трудный и длительный путь возвращения из страны нравственных заблуждений в дом Отчий, путь трудный, требовавший подвига самоотречения, смирения и преодоления страстей. Это спасительное состояние его ду ха выливается в целом ряде прекрасных стихотворений, правдиво и необыкновенно сильно передающих нам стремление поэта вернуться к первоначальной чистоте. Он «отрок Библии, безумный расточитель, до капли истощив раскаянья фиал, увидев, наконец, родимую обитель, главой поник и зарыдал». В пылу восторгов скоротечных, в бесплодном вихре суеты, о, много расточил сокровищ он сердечных за недоступные и преступные мечты. И долго он блуждал, и часто утомленный, раскаяньем горя, предчувствуя беды, он думал о своем невинном отрочестве, вспоминая чистые видения детства. Много переменилось в жизни для него, и сам, покорный общему закону, переменился он. Еще молод был он, но уже судьба его борьбой неравной истомила. Он был ожесточен. В унынье он часто помышлял о юности своей, утраченной в бесплодных испытаньях, о строгости заслуженных упреков, и горькие кипели в сердце чувства. Он проклинал коварные стремления преступной юности своей. Самолюбивые мечты, утеха юности безумной, взывал он. Когда на память мне невольно прийдет внушенный ими стих, я содрогаюсь, сердцу больно, мне стыдно идолов моих. К чему, несчастный, я стремился, пред кем унизил гордый ум, кого восторгом чистых дум боготворить не устыдился? Ах, лира, лира, зачем мое безумство разгласила? Ах, если б Лета поглотила мои летучие мечты! – Увы, говорит проповедник, лира разгласила и Лета не поглотила. Он пережил свои желанья, он разлюбил свои мечты. Ему остались лишь одни страданья, плоды сердечной пустоты. Он возненавидел самую жизнь, будучи не в состоянии понять ее смысла, как свидетельствует об этом стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана…». В его уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно перед ним свой длинный развивает свиток. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды, и сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды».