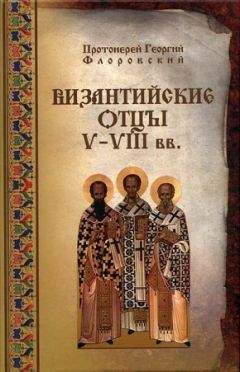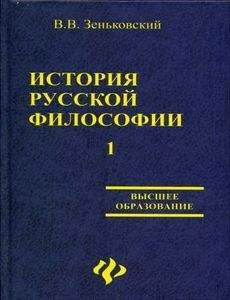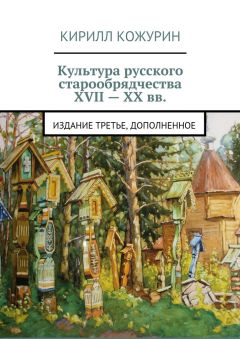Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Но настает, наконец, момент небесного посещения встревоженной падениями совести, и поэт «в себе же пришед, рече: колико наемников Отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю». Начинается трудный и длительный путь возвращения из страны нравственных заблуждений в дом Отчий, путь трудный, требовавший подвига самоотречения, смирения и преодоления страстей. Это спасительное состояние его ду ха выливается в целом ряде прекрасных стихотворений, правдиво и необыкновенно сильно передающих нам стремление поэта вернуться к первоначальной чистоте. Он «отрок Библии, безумный расточитель, до капли истощив раскаянья фиал, увидев, наконец, родимую обитель, главой поник и зарыдал». В пылу восторгов скоротечных, в бесплодном вихре суеты, о, много расточил сокровищ он сердечных за недоступные и преступные мечты. И долго он блуждал, и часто утомленный, раскаяньем горя, предчувствуя беды, он думал о своем невинном отрочестве, вспоминая чистые видения детства. Много переменилось в жизни для него, и сам, покорный общему закону, переменился он. Еще молод был он, но уже судьба его борьбой неравной истомила. Он был ожесточен. В унынье он часто помышлял о юности своей, утраченной в бесплодных испытаньях, о строгости заслуженных упреков, и горькие кипели в сердце чувства. Он проклинал коварные стремления преступной юности своей. Самолюбивые мечты, утеха юности безумной, взывал он. Когда на память мне невольно прийдет внушенный ими стих, я содрогаюсь, сердцу больно, мне стыдно идолов моих. К чему, несчастный, я стремился, пред кем унизил гордый ум, кого восторгом чистых дум боготворить не устыдился? Ах, лира, лира, зачем мое безумство разгласила? Ах, если б Лета поглотила мои летучие мечты! – Увы, говорит проповедник, лира разгласила и Лета не поглотила. Он пережил свои желанья, он разлюбил свои мечты. Ему остались лишь одни страданья, плоды сердечной пустоты. Он возненавидел самую жизнь, будучи не в состоянии понять ее смысла, как свидетельствует об этом стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана…». В его уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно перед ним свой длинный развивает свиток. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды, и сердцу вновь наносит хладный свет неотразимые обиды».
Даже к самой смерти Пушкин относился не с покорностью, а с презрением, вытекавшим из пустоты сердца и бесцельности жизни… «Снова тучи надо мною собралися в тишине; рок завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей? Бурной жизнью утомленный, равнодушно бури жду. Может быть, еще спасенный снова пристань я найду. Но предчувствую разлуку, неизбежный грозный час». И предчувствие сбылось: три раза он стрелялся на поединках, три раза выстрелы противников в него не попадали, но на четвертом пуля его сразила.
Был ли Пушкин совсем неверующий? – спрашивает преосвященный Никанор и отвечает: нет. Он был двойственный человек, плотской; душевный и духовный. Служил он больше плоти, но не мог заглушить в себе и своего богато одаренного духа. Глубоко постигал он и неверие, и веру, и не только постигал, но и чувствовал, вмещая в себе и то и другое, о чем свидетельствует, между прочим, глубоко назидательное стихотворение «Безверие».
Двойственность поэта ясно раскрывается и в его признаниях, и стихотворениях, и биографических фактах. Закон Божий он знал хорошо, часто читал Библию, находя в ней источник вдохновения и поэзии, но тут же находил, что Святой Дух только иногда (значит, не всегда) бывал ему по сердцу, а вообще он предпочитал Гете и Шекспира. В одно время он берет уроки чистого атеизма у одного англичанина Гунчинсона, который исписал листов с тысячу, чтобы доказать, что не может быть Творца и Промыслителя и что нет бессмертия души. Поэт находит эту систему мало утешительной, но, к несчастию, более всего правдоподобною. В то же время поэт старается оправдать себя от подозрений в проповеди безбожия. Он постоянно призывает Бога, клянется Им и своей душой, признает и Промысл Божий. Говорит он и о Божестве Христа: «В простом углу своем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель; одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш Божественный Спаситель, Она с величием, Он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах».
В своем творчестве Пушкин часто вдохновляется Священным Писанием. Он часто и Богу молится, ходит в церковь, посещает монастыри, иногда исповедуется и приобщается. Заказывает панихиду по Байрону (7 апреля 1825 г.). И все это в нем часто перемежается с легкомысленным отношением к религии. Характеризуя Пушкина с этой стороны, его умнейший друг князь Вяземский пишет о нем: «Пушкин никогда не был ум твердый, по крайней мере, не был им в последние годы жизни своей, напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их».
В последние годы жизни Пушкин переменил взгляд и на духовенство, значению которого он уже приписывает государственную важность. И вообще в этот период жизни в нем происходит глубокий внутренний поворот к вере в Бога, но поворот этот совершается медленно и тяжело. Теперь он начинает понимать смысл жизни и надеется устроить свое счастье переменой своего положения, то есть женитьбой. Эта обманчивая надежда и ускорила его закат печальный, хотя и блеснула на него улыбкою прощальной.
Каковы были нравственные предпосылки рокового исхода его жизни? – архиепископ Никанор об этом говорит следующее. Пытаясь работать над переменой в себе всего нравственного строя, Пушкин сознавал, что трудился он в этом направлении не особенно успешно, ибо слишком много грехов тяготело над его душой, а грех его тянул на старую стезю погибели. «Напрасно он бежал к сионским высотам, чувствуя, что грех алчный гонится за ним по пятам: так ревом яростным пустыню оглашая, взметая пыль и гриву потрясая, и ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий». Не предносилось ли в это время уму поэта изречение первоверховного апостола: Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет 5, 8). Душа поэта уже не могла сама своими силами вырваться из когтей греха: нужен был сильный удар со стороны спасительного Провидения, чтобы исторгнуть эту великую душу от конечного растерзания.