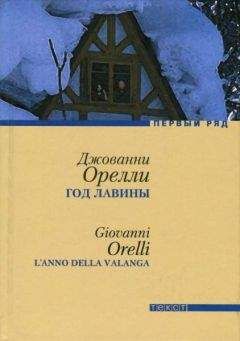Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Метод Ходасевича будет дружно отвергнут советскими академическими пушкинистами, людьми, отстоящими от поэзии гораздо дальше поэта Ходасевича, но считающими себя точными арбитрами и знатоками, более трезвыми и, конечно, отчасти правыми. Но он сам дал им в руки оружие против себя, написав статью о пушкинской «Русалке». Об этом — чуть позже.
Примерно в 1915 году он занялся и исследованием темы смерти в ранней лирике Пушкина. Эта работа не была написана, но остались интересные заметки. Затем, в 1915 же году, была напечатана его первая серьезная статья о Пушкине «Петербургские повести Пушкина», статья блестящая, хотя академические пушкинисты считают отдельные ее положения наивными, отрицают отношение к этой петербургской теме «Домика в Коломне» даже в пародийном ключе, но та же Ирина Сурат признает эту его работу чуть ли не предшественницей идеи единого «петербургского текста», выдвинутой через 90 лет В. Н. Топоровым.
Оказавшись в 1920 году в Петрограде, Ходасевич по ходатайству П. Е. Щеголева был принят на работу в Пушкинский Дом. Он заранее, еще из Москвы, обратился к Щеголеву с просьбой: «…как Вы думаете, сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю заняться, и это единственное, что меня сейчас может „среди мирских печалей успокоить“». 24 ноября он писал Гершензону: «С 1 декабря начну работать в Пушкинском Доме, составлять описания рукописей. Модзалевский, как всегда, очень мил и доброжелателен. Обещал приставить меня к пушкинской эпохе. Для начала, кажется, буду разбирать альбомы. Официальное мое звание будет — научный сотрудник».
Всю зиму и весну он работал в Пушкинском Доме, переходя на Васильевский по Дворцовому мосту, потом сидел у окна, изучая старые рукописи и альбомы, счастливый этим занятием, время от времени взглядывая на простор Невы, сначала подо льдом, потом засиневший весенними волнами (вспоминалось недавнее, блоковское: «Это звоны ледохода на торжественной реке…»), и на шпиль Адмиралтейства, поблескивающий там, на той стороне. Но оказалось, что это все-таки не по нему — он не поладил с пушкинистами. 24 июля написал Гершензону, своему крестному отцу в пушкинизме: «С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю — но мертвечинкой пахнет. Думал — по уши уйду здесь в историю литературы — а вышло, что и не хочется. Кроме того — Гофман очень уж пушкинист-налетчик, да Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский совсем хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем 7 пудов веса. Нет, не хочу. У меня большое окно, виден весь Невский вдоль, видно небо. Здесь у меня лучше, чем в Академии Наук, где заседают по-дундуковски прочно». На этом и кончились его «академические» штудии Пушкина. Дальше он действовал опять в одиночку.
В 1922 году была напечатана его книга «Статьи о русской поэзии» (в нее вошли ранее напечатанные и несколько переработанные статьи о поэзии гр. Ростопчиной, о Державине, о петербургских повестях Пушкина и его речь на пушкинском вечере 1922 года. «Колеблемый треножник»), которая сразу же вызвала неодобрительную рецензию Б. В. Томашевского (под псевдонимом Вл. Ган). Томашевский считал все написанное в книге «импрессионизмом» (любимое ругательство «классических» литературоведов), большинство суждений поверхностными, идущими по линии «внешней образности».
Уже после отъезда Ходасевича за границу, в 1924 году, вышла в Петрограде в издательстве «Мысль» его «побочная дочь» — книга «Поэтическое хозяйство Пушкина», изданная весьма неряшливо, с грубыми опечатками (например, «рыбья кровь» вместо «рабья кровь»), вышла по сути дела без его ведома: печатая в журнале «Беседа» в 1923–1925 годах отдельными главами эту свою работу, Ходасевич послал Нюре в Петроград фрагменты из нее и текст статьи «Русалка» и просил ее узнать о возможности напечатания книги, а Нюра поспешила отдать ее в издательство «Мысль», почти сразу в набор. Ходасевич был безумно огорчен неряшливостью этого издания. В ряде статей этой книги Ходасевич систематизировал и анализировал авторские повторы отдельных слов и ситуаций у Пушкина, и точность цитат была здесь особенно важна.
Но дело, собственно, даже не в этом. Книга в любом виде была бы в штыки встречена академическими пушкинистами; причиной этому послужила, в первую очередь, статья о «Русалке». Биографический подход Ходасевича к творчеству Пушкина, который и в целом встретил дружный отпор в среде пушкинистов, в этой статье был применен им до карикатурности прямолинейно. Он предполагал в биографии Пушкина факты, которых не знал и не мог настаивать на их вероятности, да и не было оснований считать, что они так прямо отразились в «Русалке». Он полагал, что гибель дочери Мельника в днепровских водах от несчастной любви обязательно должна была иметь аналогию в жизни Пушкина и что крепостная возлюбленная Пушкина, беременная от него (о чем говорят «Записки» Пущина и письмо Пушкина Вяземскому), тоже, по всей видимости, утопилась. Дальнейшие исследования биографии Пушкина, обнаружение новых фактов этой версии Ходасевича не подтвердили. Щеголев выяснил, что любовницей Пушкина в Михайловском была крепостная Ольга Калашникова, которая потом спокойно жила себе в Болдине, куда был отправлен управляющим ее отец, вышла замуж и даже написала Пушкину письмо с целым рядом просьб. Конечно, в данном случае подход Ходасевича к трактовке психологических истоков «Русалки» оказался очень, мягко говоря, неточным, но не во всем. Возможно, история отношений с Ольгой Калашниковой и связанные с этим переживания и муки совести действительно привели к возникновению такого сюжета. Тема же неугасающей любви к умершей женщине и даже влечения к ней существовала в творчестве Пушкина и до этого, например в стихах, обращенных к Амалии Ризнич:
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..
Или:
Ты говорила: «В день свиданья,
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья…
Но жду его; он за тобой…
Поэтому стихотворный отрывок, предшествующий созданию «Русалки», не воспринимается как нечто неожиданное и обязательно (в отличие от стихов, посвященных Ризнич) пережитое, связанное со смертью в пучине вод конкретной женщины, а скорее как фантазия, конечно несколько эротическая, чтобы не сказать «некрофильская», но именно как фантазия (возможно, идет она все-таки от сюжета популярной в те времена оперы Н. Краснопольского «Днепровская русалка»).