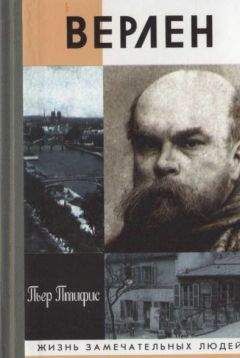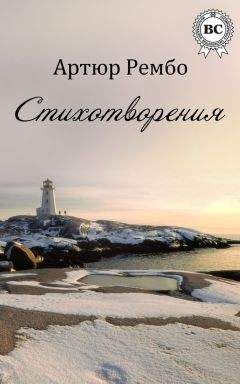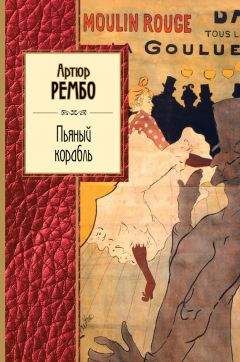Елена Мурашкинцева - Верлен и Рембо
Я ученый в сумрачном кресле. Ветки и струи дождя хлещут в окна библиотеки.
Я путник на большаке, проложенном по низкорослому лесу. Журчание шлюзов шаги заглушает. Я подолгу смотрю, как закат меланхолично полощет свое золотое белье.(…)
В часы отчаянья воображаю шары из сапфира, из металла. Я — властелин тишины".[114]
Подобные цепочки поэтических образов принципиально изменчивы — устойчивых представлений нет и быть не может. Сколько было восхищенных возгласов по поводу стиховорений "Руки Жанны-Мари" или "Кузнец": как Рембо любил народ, как был грозен в своей ненависти к правящим классам! Конечно, он "любил народ", когда писал эти стихи — вернее, живо "представлял себе", как он любит народ. Когда же набегали другие "представления", на свет появлялись совсем иные строки:
"Все ремесла мне ненавистны. Хозяева, рабочие, скопище крестьян, все это — быдло. Рука пишущего стоит руки пашущего. Вот уж, поистине, ручной век! — А я был и останусь безруким. Прирученность в конце концов заводит слишком далеко".[115]
"Объективная поэзия" делала из Рембо созерцателя, а его ясновидение более всего походило на галлюцинацию. Это был очень начитанный юноша с проблесками гениальности и с пустой душой: все его впечатления и переживания были книжными, отсюда часто повторяемый вздор — "он все о себе предсказал". Жизнь сложилась так, что он действительно увидел те страны, которые себе намечтал — но когда увидел их, это его уже не интересовало. Какое дело до роскошной африканской растительности человеку, который поклоняется золотому тельцу. Между прочим, потеря поэтического дара привела и к потере облика, о котором восторженно вспоминал Верлен, яростно защищая друга: он был не уродлив, а красив! К концу жизни все переменится: у "уродливого" Верлена появится обаяние печального "фавна", тогда как лицо Рембо на фотографии, сделанной в Абиссинии, ужаснуло даже Клоделя (тут же пролившего слезу о "безмерных трудах", исказивших облик поэта). Впрочем, молодая красота, вероятно, также была мифом. От парижского периода остались две почти идентичные фотографии Каржа: на ретушированной перед нами романтический поэт с мечтательным взором, тогда как на той, которая ретуши не подверглась, изображен юноша с острыми (не слишком красивыми) чертами лица и взглядом исподлобья — крайне настороженным и недоверчивым.
Любое реальное столкновение с жизнью приводило Рембо к катастрофе. Бог даровал гений слабодушному: каждое не "книжное" испытание оборачивалось бесконечным нытьем и жалостью к себе. "Бунтарь" слишком часто молил о помощи или требовал денег, не гнушаясь шантажом. В довершение всего, он предал друга. Даже если бы "злокозненный" Верлен совратил невинного юношу, то и в этом случае обращение в полицию выглядело бы не слишком пристойно. Но после всех выходок Рембо воззвание к "властям" предстает омерзительным. Когда юный поэт ранил фотографа Каржа, вся литературная богема пришла в негодование, и было решено никогда больше не приглашать зарвавшегося мальчишку. Однако никому не пришло в голову обратиться в полицию — в этой среде подобный способ защиты был напрочь исключен. Когда Рембо проткнул ножом ладонь Верлену, тот выл от боли и обиды, но бежать в полицию даже не думал — это было для него немыслимо. Не сделал этого и "свидетель" — доктор Антуан Кро. Впрочем, предательство означало крах для самого Рембо: последним усилием воли и воображения он попытался претворить позорные события в поэзию — так появился "Сезон в аду". Обожатели любят повторять: "Когда б вы знали, из какого сора…" или "Пока не требует поэта…". Но как бы мы относились к Ахматовой, если бы "сором" стало сотрудничество с НКВД?
Особенно печальное впечатление производят последние годы жизни Рембо. Не случайно Ив Бонфуа утверждал, что о них вообще не нужно упоминать, как не следует читать и абиссинские письма Рембо. Действительно, от этого лучше воздержаться, иначе неизбежно наступает разочарование, которое испытал, к примеру, Рене Этьямбль: "… сейчас мне кажется, что часть — и весьма значительная по объему — сочинений Рембо совершенно не дотягивает до литературы. В любом случае, остается за ее пределами. Речь идет об африканских письмах. Как удручают эти бесконечные жалобы, и дело здесь не только в бедности языка. Сколь убогими выглядят его интересы: банковский процент в Бомбее, наилучшее вложение капитала, страх перед жандармами. Подобные письма могли бы заставить меня усомниться, что тот Рембо, в котором я давно научился любить другую сторону его личности, был также ученым и моралистом. Но, чтобы заслужить свою судьбу, он должен был стать ученым, в котором воплотился бы великий спор XIX века — поэт против инженера. И мне было необходимо, чтобы Рембо, сделавший свой выбор в пользу поприща, которое позднее назовут "технократическим", устремился бы на стезю инженера и исследователя. Как бы мне хотелось, чтобы именно он открыл путь, по которому будет проложена затем железная дорога Джибути — Аддис-Абеба. (…) Я снова и снова взвешивал его слабости: вербовочные премиальные, которые он ухитрился прикарманить дважды — в 75 и 76 годах; неоднократное мелкое жульничество; шантаж по отношению к Верлену; грабительский колониальный обмен и торговля неграми. И это не говоря о спекуляциях оружием! Но мне все же казалось, что Рембо пытался одолеть себя, мучительно и болезненно созидая в себе высокие нравственные качества. Мне очень хотелось в это верить, но в его жалкой переписке есть нечто такое, что отныне я могу любить без оговорок лишь некоторые сочинения: отдельные "Озарения", несколько стихов и большую часть "Сезона в аду".
Зато русский исследователь, хотя и отмечает, что абиссинские письма лишены "даже краеведческого значения", все же повторяет прежние утверждения, что деятельность бывшего поэта в Абиссинии вполне сопоставима с мученическим венцом: "Став торговцем, Рембо не стал буржуа. В его лаконизме, его вызывающей сухости, его принципиальном умолчании заключены вызов, протест. Осудив себя в "Поре в аду", он приговорил себя к муке, отправил себя на каторгу. Ему было очень плохо в добровольном изгнании — он этого не скрывал при всем своем лаконизме, при всей сдержанности. Но молча, стоически, горделиво нес свой крест".[116]
Любопытно сравнить подход к двум поэтам: применительно к Верлену больше пишут о биографии (иллюстрируя ее стихами), применительно к Рембо — о поэзии (в которой его собственная жизнь отражена не столь непосредственно). Рембо прожил воображаемую жизнь в поэзиии, но реальная жизнь оказалась совершенно иной — и довольно неприглядной. Поэтому апологетические биографы обычно призывают не затрагивать те аспекты, которые противоречат их концепции. Если следовать всем этим запретам, то говорить можно лишь о детстве Рембо и четырех (трех, пяти) годах творчества. Об отношениях с Верленом упоминать нельзя, африканский период рассматривать не стоит, письма из Абиссинии читать не надо — на последнем настаивает даже лучший из всех "адвокатов" Ив Бонфуа.