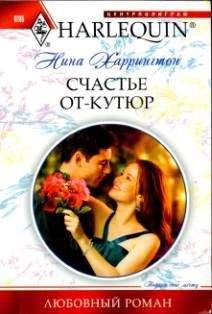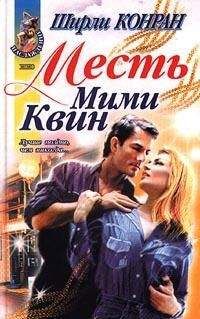Наталья Рапопорт - То ли быль, то ли небыль
Еще в связи с Олимпиадой на базу приезжал Высокий Гость из неразвивающейся страны.
Высокого Гостя играл мой муж Володя. Он три дня не брился, имел на голове обвязанный бусами белый платок и был до отвращения похож на Арафата. На голой голени он носил четыре пары часов, на которые время от времени рассеянно поглядывал, и непрерывно чесался. Высокий Гость был окружен вооруженными до зубов детьми в юбочках из папоротников. Непритязательный текст его выступления я, к сожалению, не помню – помню только, что номер имел грандиозный успех, за который меня и наградили доносом.
Успеху капустников во многом способствовало их изысканное художественно-музыкальное оформление. С замечательной фантазией и юмором музыкальные аранжировки делал Буля Окуджава (вы его, может быть, знаете под сценическим именем Антон). Неохотно, под давлением превосходящих сил противника, в художественном оформлении помогала Вика Рапопорт. Им было тогда по четырнадцать – пятнадцать лет. Интересно, что для обоих впоследствии это стало профессией.
Социологи делят публику по разным характерным признакам. На Гауе публика четко делилась на лиц, обладающих чувством юмора, и… как бы это сказать… остальных.
К одному из капустников (действие происходило в Одесском увеселительном заведении) архитектор Радий Матюшин нарисовал четыре огромные игральные карты. Четыре Главные Гауянские Дамы разных мастей смотрели на нас с этих карт: две официальные дамы, которых я уже упоминала, плюс председатель Старостата (тоже весьма официальная дама), плюс исполнительный директор базы – милая седовласая старушка. Три первые Дамы, особенно пиковая, смертельно обиделись, и я, как автор безобразия, имела неприятности.
В связи с этим капустником состоялся импровизированный «худсовет». Одесса так Одесса, решила я и сочинила выходную песню на мотив «Дерибасовской», но на сугубо местные темы. Песенка была, конечно, не бог весть что, но я очень старалась и вложила в нее много души. Вот вам несколько куплетов:
На речке Гауе открылася турбаза,
Там бродит публика, приятная для глаза,
Там игры, лекции, и споры, и проказы,
И во главе наш славный старостат.
Все полудевочки и тот фартовый мальчик
Теперь не ездят развлекаться в город Нальчик:
Они садятся в свои «Волги» и «Фиатки»
И прут на Гаую в туристские палатки.
Живем на Гауе, и все мы гауяне —
Те, кто на «выселках», и те, кто на поляне,
И даже те, кто в дефицитной финской бане, —
Все тоже носят званье гауян!
Сюда я прибыла, представьте, только ради
Того, чтоб встретиться с Георгием Конради,
Но благосклонности его мне не добиться —
Его хранит и бережет его Милица.[18]
Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму:
Я б для него надела белую панаму,
Я б для него забыла папу бы и маму,
Да смотрят Таня, Катя, Орик и Фокин.[19]
Про биополе весть пришла от Ипполита.
Врачей Кокориных теперь уж карта бита.
Лишь биотоки – да, я это точно знаю —
Нам лечат девушек – Марусю, Розу, Раю.
Нам пела песенки Никитина Татьяна.
Ее послушаешь – забудешь текст Корана…
Ну, и так далее. И конец:
Мы провели здесь три недели с интересом,
И нам не хочется ни в Сочи, ни в Одессу,
Теперь выходим на работу мы из лесу,
До встречи здесь же в будущем году.
Согласно замыслу исполнять эту песню должен был хор, разодетый в костюмы биндюжников и моряков. Хор на базе был, им руководил доктор юридических наук, главный юрист Октябрьского райкома партии. И вот я читаю хору на лесной полянке рожденный мною в муках текст. Гробовое и грозовое молчание, ни тени улыбки. Наконец юрист мрачно произносит:
– Не нравится мне ваш текст. Давайте разбирать его по куплетам.
Первую пару куплетов, с грехом пополам, проскочили. Кое-как урегулировали дело с финской баней, в которой ведь на самом деле никто не живет. Дошла очередь до Конради. Юрист говорит:
– Неужели вы сами не слышите, что последняя строчка: «Его хранит и бережет его Милица» не ложится в размер? Давайте будем петь: «Его хранит и бережет жена».
В этот момент я подумала, что он шутит, и вся эта ситуация – отменный розыгрыш. Но юрист продолжал:
– Теперь о Гердте. «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму..». Это для кого же он Зяма? Это он для Татьяны Александровны Зяма. А для вас и для меня – он Зиновий Ефимович. И Фокин, кстати, не Фокин, а Фокин (здесь игра ударений: на первом или втором слоге).
Тут уж я не выдержала.
– Хорошо, – сказала я с чувством, – давайте петь: «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зиновия Ефимовича», а еще лучше – давайте споем: «Исподтишка бросаю взгляд на народного артиста СССР, лаурета Государственной премии Зиновия Ефимовича Гердта».
На этом я, что называется, хлопнула дверью и бесславно покинула поле сражения.
Иду расстроенная, чуть не плачу. Навстречу – Фокин.
– Что такая унылая?
Я со слезой в голосе излагаю, что произошло. Ни один мускул не дрогнул на этом неподвижном восточном лице, выслушал молча и безучастно. Я кончила, он произнес свой приговор:
– А что ж, действительно, не Фокин, а Фокин, – повернулся и ушел.
Это было последней каплей. В глубокой печали плелась я в свою палатку, а путь лежал мимо палатки Гердта. Слышу смех: это Фокин в красках излагает Гердтам, Никитиным и Окуджавам ход моего «худсовета». Сердобольный Зяма подозвал меня, расспросил о подробностях, все так хохотали, что даже я постепенно оттаяла. Никитин сказал:
– Не огорчайся! Ей-богу, текст хороший, спой сама, я тебе саккомпанирую.
– Сереж, я не умею петь. Совсем.
– Глупости! Все умеют петь. Я тебе подыграю, ты споешь, получится хорошо. Пошли попробуем.
И уже у него в руках гитара, и мы уходим в леса. Сергей настраивает гитару, проигрыш – и он велит мне начинать. Я начинаю петь и… надо было видеть глаза Никитина! Он просто раньше не знал, что такое бывает!
На этом моя исполнительская карьера была навеки закончена, зато Сергей проникся ко мне нежностью, как к больному ребенку.
Конечно, в конце концов мы набрали новый хор, и все обошлось.
Капустником заканчивалось гауянское лето, начинался разъезд. Ездили домой обычно тандемами. Мы пару раз возвращались в паре с Никитиными. Ни Сергей, ни Володя тогда машины не водили, так что командорами пробега бывали мы с Татьяной. Артистическая натура совершенно не мешает Татьяне быть замечательным водителем, угнаться за ней непросто. Я сильно не дотягивала. К моменту, когда мы, наконец, подъезжали к Москве, я так уставала, что буквально искала тормоз глазами.
Однажды обратный путь чуть не кончился для нас трагически. В тот год мы собрались ехать домой в паре с Окуджавами. В их машине – Ольга и Буля, в моей – Вика и Ира Желвакова (директор музея Герцена в Москве). Маршрут мы разработали феерический: сначала едем в Каунас, отмечаем там мой день рождения, потом – в Вильнюс, и уже из Вильнюса – в Москву. Но все не заладилось с самого начала. Вечером накануне отъезда Буля с Викой поехали на булиной машине прыгать по дюнам, застряли в песке и, пытаясь выбраться, посадили аккумулятор. В поисках пропавших, спасательной экспедиции и зарядке аккумулятора прошла большая часть ночи, поэтому выехали мы значительно позже, чем намечали. Моросил нудный прибалтийский дождь. Мы мчались, пытаясь наверстать упущенное время. Окуджавы неслись впереди, я за ними. Нагруженная доверху ольгина машина загораживала мне перспективу. Въехали на эстакаду. Внезапно ольгина машина круто берет влево и вылетает на полосу встречного движения. У меня сердце упало. К счастью, навстречу никто не ехал, и Ольга благополучно вернулась на свою полосу. Что вызвало этот неожиданный маневр? Перевожу взгляд на дорогу – прямо передо мной на проезжей части стоит автомобиль, «Москвич» с латышским номером. Как позже выяснилось, водитель пропустил свой поворот и остановился в растерянности посреди проезжей части. Я пыталась затормозить, вывернуть – поздно… Удар был такой, что «Москвич» отлетел на тридцать девять метров. К счастью, никто в нем не пострадал. У нас же, как потом выяснилось, Вика получила сотрясение мозга, а Ира Желвакова – травму.