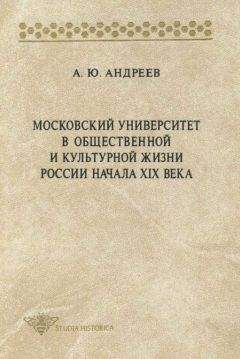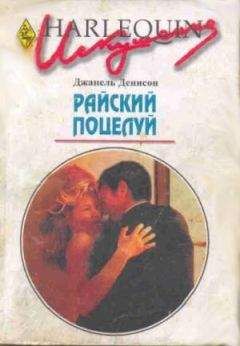AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ
Недостаточно владевший русским языком, я получал теперь от самой жизни его подлинные уроки. И уроки советской системы одновременно. Серость и однообразие толпы несколько смягчали некоторые женские силуэты; тут и там встречались уже примеры с трудом реализуемого стремления позаботиться о внешности, о стиле, о моде. Но лишь при следующем приезде, несколько лет спустя, я заметил, что это принесло свои плоды: улица стала уже немного иной. А тогда – сразу, при первом взгляде – бросилось еще в глаза отсутствие мужчин среднего возраста, истребленных войной, и в лицах женщин, измученных непосильным трудом и одиночеством, – повторяющаяся гримаса горечи, боли и усталости. Война извещала также о своих страшных последствиях огромным числом калек и инвалидов. Урок продолжался, и жизнь открывала глазам всё новые учебные пособия. Повсюду, среди прохожих и над толпой, мелькали на оклеенных плакатами стенах, фресках, фотографиях в вывешенных на улицах газетах смеющиеся лица мускулистых героев, марширующих в светлое будущее рядом со своими дородными подругами в окружении атрибутов полного изобилия и громких лозунгов. Это были мои энтузиасты из маршей Дунаевского, превращенные в знаки «наглядной пропаганды» (существовал такой специфический термин культуры). Достаточно оказалось часок побродить по улицам, чтобы понять – это забавы с несуществующими вещами, ведь здесь вовсе нет этого – ни таких лиц, ни поз, ни жестов. Разве что на спортивных парадах. Или когда фотограф просит позировать для газетного снимка. А сам по себе никто так не ходит, не выпячивает грудь, не улыбается во весь рот. Известная скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», прообраз всего этого стиля – это чистый абстракционизм в точном значении этого слова. Со всех сторон о себе напоминал самый очевидный принцип здешней пропаганды – никакой связи с реальной действительностью, создаем иную. Я еще вернусь к этому.
Потом я размышлял, сколь полезно для властей создание подобной плакатной фикции. Изможденные, далеко не столь упитанные, часто вовсе искалеченные и больные люди, видя постоянно перед собой тех богатырей, вгонялись в комплексы, в смешанную с раздражением покорность, в ощущение своей ущербности, неполноценности. Это было как хлестание плетью. А вообще-то, думал я еще, во время учебы нас дрессировали подобным же образом. Мы были окружены галереей образцовых героев, которые при внимательном рассмотрении оказывались совсем не такими, какими их представляли. Но нас заставляли на них равняться, чтобы мы пытались достигнуть недостижимого воплощения фикции и чтобы нас всегда можно было обвинить (и дать нам возможность обвинять других) в недостаточном старании и энтузиазме.
Вернусь, однако, на московскую улицу. Еще одно бросилось сразу в глаза – специфический контраст, разделение цветов. Толпа, а значит, то, что носило признаки частного, индивидуального, была серой. Яркими красками кричали стены домов и не гармонировавшие между собой милицейские и военные мундиры, плакаты, автобусы и троллейбусы. Краски олицетворяли собой власть, их вызывающая резкость, рассекающая магму однообразной толпы, становилась функцией этой власти. Было ли это так задумано и использовано каким-нибудь сталинским специалистом по социотехнике (термина такого тогда, понятно, еще не использовали)? Выросло ли это на почве традиции и обычаев? Подозреваю, что замешано и первое, и второе, но с преобладанием сознательных действий. Об этих действиях, являвшихся исполнением деспотической воли самого диктатора, свидетельствовали его любимые детища – высотные здания. В прежние времена о них говорили с добавлением «сталинские». Действительно, такими они и были. Сталинизм воплотился в них столь же конгениальным образом, как итальянский фашизм в каботинских сооружениях римской Эспозиционе или в том, что предполагал сотворить гитлеризм по проектам Шпеера.
О строительстве «высоток», как их посвойски окрестила улица, нас в свое время информировали так интенсивно, что я был убежден – их здесь великое множество, а центр Москвы напоминает Манхеттен. Тем временем в одночасье воздвигли пять гигантов, но расставили их так искусно, что они визуально контролировали город, точно сторожевые вышки – огромный лагерь. Их титаническая безобразность царила надо всем, видимая под разным углом отовсюду: от них нельзя было укрыться нигде. Они заставляли думать о себе долго и неотрывно как о свидетельствах особого значения. Увлеченный конструктивист Маяковский предполагал, что «…геолог столетий извлечет идею наших дней» из бруклинского моста. Действительность, как оказалось, развивалась по собственным планам. Может, оно и к лучшему. Сейчас сталинизм всеми средствами пропаганды стараются постричь, причесать, преуменьшить, представить чем-то почти нормальным. Всё это ни к чему, поскольку стоят «высотки», созерцая которые, наш догадливый потомок дознается о прошлом. Упоминавшиеся ранее здания аэровокзалов были уродливым нонсенсом, но небольшого масштаба. Здесь же распоясавшееся чванство и полная безвкусица объединились, чтобы уйти за облака и непрестанно втаптывать всех в землю. Насилие над архитектурой становилось парадигмой всей системы деспотии. Город, облик которого определяли прежде «сорок сороков» церковных куполов, должен был после уничтожения многих храмов обрести новую пространственную форму, заданную этими антихрамами. Их сооружали в эпоху, когда почти (кроме домов для избранных) не велось строительство жилья, а люди в страшной тесноте гнездились в «коммуналках»; кроме того, они поглощали невообразимые количества самых дорогих строительных материалов, особенно, если учесть, что разворовывали их все, кто мог. Так – в расширенном, многоэтажном масштабе – должна была осуществляться функция смеющихся плакатных гигантов; гиганты архитектуры были призваны превращать людей в муравьев, утверждать их в сознании своей ничтожности, прививать бессильную, отупляющую, рабскую покорность.
Они атаковали не только масштабом, но и красками. Первенствовал среди них невероятный в своей аляповатости и нарушающий любые разумные пропорции Университет на Воробьевых Горах (это старое название; «Ленинские Горы» не выходят у меня из-под пера, ведь это место, освященное литературой, овеянное традицией, ставшее московской исторической реликвией. Топонимических абсурдов в переименованиях там полно, но это почему-то раздражает сверх всякой меры – представьте себе, что у нас в Варшаве вместо Замковой появилась площадь Берута…). Он вознесся выше остальных и был, пожалуй, наиболее абсурден в расположении массивов, глыб и плоскостей, да к тому же и самым крикливым: он вопил пестрыми цветами, бодал небо шпилями и звездами. При виде его мне подумалось, что он мог бы быть детской игрушкой каких-нибудь впавших в младенчество маразматиков-титанов; если это сравнение покажется вам нарочитым – что делать, но таковы мои ощущения. Однако прежде всего мое внимание привлекло здание Министерства Иностранных Дел на Смоленской площади, которое в свою очередь вызвало ассоциации с фонтаном подкрашенной воды, застывшей на лету и оставшейся в состоянии призрачной невесомости. Это сооружение уже не кричало, а пугало: его беспорядочно нагроможденные друг на друга и изломанные плоскости как бы скрывали окна, делая здание слепым, циклопически грозным, похожим на мрачную цитадель – и соответствие этого дома реализуемой в нем заграничной политике было по-своему гармоничным. В сравнении с московскими «высотками» варшавский Дворец Культуры и Науки представлялся мне воплощением архитектурного аскетизма и лаконизма, почти конструктивистским по стилю.