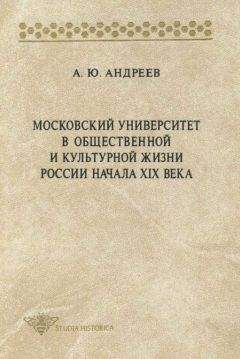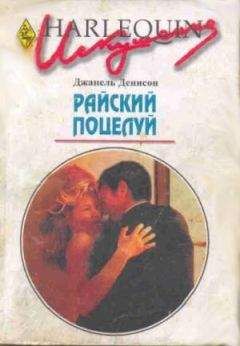AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ
Я посвятил им здесь место, отвечающее степени ошеломления, вызванного увиденным. Пора, впрочем, вернуться к людям. Упомяну еще только об одном эпизоде из области наглядной пропаганды. Пожалуй, довольно поучительном. Дело в том, что Москва поразила и своей громадностью метрополии. Я думал: интересно, как с этим огромным масштабом управятся оформители праздника, тут надо действовать с большим размахом, принимать нетривиальные, сильные решения. Варшавский фестиваль, что о нем ни говори, был пластически, художественно выразителен, доныне он остался в памяти прежде всего как яркое сочетание форм и цветов. В Москве я со дня на день ожидал подобного преображения: вот проснусь утром, выгляну из своего окна на седьмом этаже гостиницы «Москва», в самом центральном центре столицы, и окажусь в ином мире… Но дни проходили, а на улицах по-прежнему висела пестрая галантерея флажков, вымпелов, плакатиков, искусственных цветов. Тогда я решил, выполняя свои репортерские задания, отыскать главного художника Фестиваля по фамилии, если не ошибаюсь, Кербель. Он оказался самым неуловимым из всех разыскиваемых лиц. Лишь однажды я услышал по телефону его голос, но и тогда он быстро меня сплавил, во всех остальных случаях он неизменно находился «на объекте». Как выяснилось потом, не только для меня. И у него были причины избегать прессы, так как в ситуации он очутился незавидной. Меня неофициально известили, что план декоративного оформления города был с большим размахом и фантазией заблаговременно подготовлен молодыми художниками, уже в то время взбунтовавшимися против мертвечины соцреализма и обратившимися к авангардистским традициям двадцатых годов (логично – к чему еще можно было обратиться?) – и что всё это незадолго до начала празднества было отвергнуто и осуждено как «формализм». Эту информацию, как говорится, за что купил, за то и продаю – она не подтверждена документально. Зато знаю точно, что Фестиваль начался, протекал и завершился в том же самом мелкогалантерейном, тряпично-клубном оформлении. Так выглядели бы Дворец Культуры, окутанный лентами серпантина, и Площадь Парадов, посыпанная конфетти. Своего художественного решения Фестиваль не имел. Лишь потом, спустя какое-то время, мне пришло в голову – ведь режим не мог поступиться своим стилем. Даже на две недели. Людей нельзя было выпустить из когтей системы. Поэтому не удивляйтесь, что я буду настаивать – цвета московской улицы далеко не случайно распадались на частно-индивидуальные и государственно-официальные.
Я тем временем по этим улицам бегал, чувствуя себя пришельцем из другого, лучшего мира и будучи достаточно неосторожен, чтобы эту непохожесть подчеркивать своим одеянием. Ничего особенного, впрочем, на мне не было – полотняные голубые брюки, кисейная, «дырчатая» рубашка и легкий свитер, купленный годом раньше на римской барахолке. Однако все это сразу выделяло меня из толпы, я чувствовал себя в каком-то подвижном отдельном мини-пространстве, образованном постоянными и настороженными взглядами: а это что за человек? Иностранец не был тогда обычным явлением. Лишь годы спустя я оценил пользу мимикрии, растворения в массе, превращения в одного из многих, подражания интонациям односложных откликов, что позволяло в связи с более твердым акцентом быть причисленным, скажем, к прибалтам. В те дни я бросался в глаза, но ни на миг не ощутил враждебного отношения к себе. Толпа была не слишком приветливой, резкой, занятой собой, но внутри нее ощущалась теплота. В таких оценках невозможно ошибиться. А ведь могло быть иначе – общество подвергалось суровой дрессировке в духе недоверия к иностранцам. Но достаточно было, как правило, обратиться к кому-нибудь, спросить про дорогу, чтобы хмурые лица смягчались и вам начинали подробно и долго объяснять, как и каким транспортом добраться. Аргументом в пользу сближения был, пожалуй, язык: странный собеседник старался всё же говорить, правда, далеко не безупречно, но по-русски. За эти усилия платили доброжелательностью. Иногда чужеземное убранство как раз помогало – легче было форсировать секретариаты и мягкую обивку дверей официальных кабинетов. Во время самого Фестиваля я привык изображать из себя англосакса, что открывало путь ко всем закрытым мероприятиям лучше, чем удостоверение журналиста.
А некоторую полезную работу Фестиваль проделал. Могу представить себе озабоченность советских властей – ведь в пропагандистском плане он был им, с одной стороны, нужен, а с другой – повлек за собой массу хлопот. Общество, распевающее песни о стране, где так вольно дышит человек, жило в огромной тюремной зоне, а полная изоляция от внешнего мира была главной гарантией спокойного правления партийной элиты. Ограниченная десталинизация в этом плане как раз почти ничего не изменила (вплоть до времени, когда я пишу эти слова), хотя, понятно, при Сталине о Фестивале нельзя было и подумать. А тут должны появиться свыше десяти тысяч иностранцев. Опыта не было, еще не умели, как научились поступать позднее, просто закрывать Москву, предварительно выселив из нее «нежелательные элементы». Впрочем, и так сделали немало. Делегатов поселили возможно дальше от центра. Их возили на мероприятия автобусами, а по завершении стремились собрать вместе и отвезти назад. Магнитом служило угощение, поскольку кормили с барской щедростью: каждый ел, сколько хотел и мог; мне известны случаи тяжелого несварения желудка у делегатов, принявших черную икру за некий вид каши и поглощавших ее столовыми ложками. Nota bene – приобретать расположение иностранцев с помощью обильной кормежки в этой хронически недоедающей стране – прием частый и эффективный. Места нашего обитания стерегли неумолимые церберы. Они же были организаторами мероприятий, для которых, как я вскоре сориентировался, старательно подбирали местную публику; обычный русский и не помышлял о том, чтобы попасть туда, и я с ощущением бессильного сочувствия нередко прокладывал себе путь в толпе, ожидающей счастливого случая или просто возможности посмотреть на недоступных иностранных гостей.
Стараний было много, но жизнь – это жизнь и – особенно в самом начале – установленные преграды сильно трещали под напором людей. Образовалось немало дыр. Делегаты расползлись, церберы за ними не поспевали. Допущенные на встречи избранники идеологически расслаблялись, поскольку верх брало любопытство. На улицах окружали гостей, спонтанно возникали дискуссии. Москва имеет к тому же свою традицию – здесь люди просто выходят пройтись, посмотреть, что делается вокруг; это гулянье – не просто прогулка, но и давняя форма человеческого общения, так как в немногочисленные кафе попасть нелегко. Но когда на прогулку выходит полгорода, то в центре создается толчея. Помню один из первых фестивальных вечеров (может, даже в день открытия). Просторной улицей Горького, расширенной давней Тверской-Ямской, во всю ее ширину, по тротуарам и проезжей части, текла вниз к Красной площади огромная толпа. Должно быть, не слишком часто ей разрешалось завладеть всей мостовой. Первомайские демонстрации были организованными, тщательно регулируемыми и контролируемыми, а перед трибунами манифестантам надлежало – при Сталине – пробегать (возможно, из соображений безопасности?). После смерти тирана народ поспешил на прощание с его телом, создалась (а, может, была создана – это дело загадочное и непроясненное) страшная давка, паника, задавили, затоптали, как рассказывают, сотни человек. Но теперь было иначе. Люди шли свободно, непринужденно, шутили и смеялись; во время этого гулянья их лица утратили напряженное выражение чудом выживших или спасенных. Я был там, шел с ними, впитывая эту новую атмосферу и радуясь. Неисправимый оптимист, я полагал, что так дела пойдут и дальше, что Фестиваль обеспечит глубокий пролом в стене отчуждения, что процесс этот необратим… Красную площадь заполнили люди, разделившиеся на небольшие группки, в центре каждой оказался один или несколько иностранцев. Поляки пользовались особой популярностью: вроде бы, свои, но и немного другие, подвергнутые в прошлом году резкой официальной критике, но продолжающие делать свое дело. А, собственно, что и как делающие? Слушали жадно, комментировали сдержанно, но в глазах обычно прочитывалось уважение, часто – искренняя зависть. Слово «Гомулка» склонялось во всех падежах. Нас охватила (преждевременная, ой, сколь же преждевременная!) гордость, даже уверенность, что мы прокладываем путь этим угнетенным братьям. Мы были окружены, в основном, молодежью, нашими ровесниками. Я и сейчас вижу выражение их лиц. Один меланхолически произнес: «Да-а, политика – это занятие мужчин, а я играю в футбол…», развернулся и отошел. Несколько других, основательно расспросив меня и, возможно, желая как-то отблагодарить, а то и показать, что сами не лыком шиты и знают зарубежный мир, затянули нескладным хором: