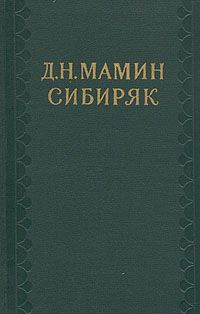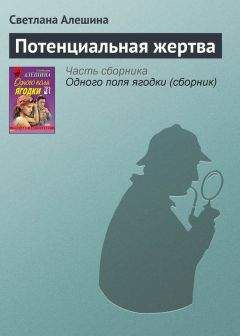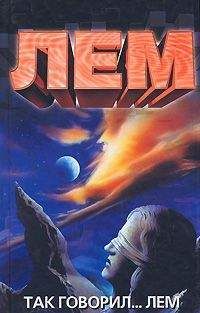Селеста Альбаре - Господин Пруст
Все это сохранилось в моей памяти как смутное время перемен, когда начинается совсем другая жизнь, да еще с такой притягательной личностью, чья мягкость, больше чем любая сила, делала его центром этой жизни, то очень близким, благодаря его доброте и деликатности, то совсем далеким, когда он погружался в самого себя.
Возвратившись на кухню или в свою комнату, я часто вспоминала его слова о том, что при его положении неприлично иметь возле себя женщину. Я замечала, как неподвижно он лежал при мне в постели, понимая, что пить кофе можно только сидя или даже спустив ноги на пол. Но при мне — только вытянутое тело и руки поверх натянутой простыни. Больше ничего, кроме живого, внимательного взгляда.
Поскольку мои обязанности заключались только в том, чтобы приходить на его звонки, он со свойственной ему рассудительностью занялся поисками замены для Никола, и, естественно, не желая брать первого попавшегося, начал наводить справки среди своих знакомых. Один из них, граф Готье-Виналь, большой почитатель его сочинений, поручил это дело своей горничной, и через некоторое время к нам явился невысокий молодой человек — вполне приличный, но чересчур застенчивый. Как он сам потом говорил, когда я открыла ему дверь, он принял меня за хозяйку дома и был очень смущен. Его уже вызывали на призывную комиссию, но пока отпустили, хотя и не из-за слабости здоровья, — г-н Пруст сказал мне: «Граф Готье-Виналь подтверждает, что он вполне здоров». Но выглядел он уж очень хилым и хрупким.
Г-н Пруст взял его, но просил меня остаться еще ненадолго и пока ничего не менять. Я прекрасно понимала, что ему не нравятся новые лица и вообще любые перемены.
Он сказал мне:
— Мадам, вы уже привыкли ко мне, а я к вам. И этот молодой человек стесняется даже говорить, нужно все объяснять. Меня это утомляет. Так что, когда я буду звонить, все-таки приходите вы, если можно. Потом мы посмотрим, сможет ли он приспособиться.
Был август 1914 года, и наши дела на фронте шли плохо. Приходилось довольствоваться тем, что было под рукой. Его вызвали еще раз, признали годным, и чуть ли не на следующий день он был отправлен.
Г-н Пруст возобновил свои поиски и нашел новую замену, одного шведа: может быть, ему показалось, что гражданин нейтральной страны сможет пробыть у него подольше. Этот оказался полной противоположностью первого — настолько высокого о себе мнения, что, похоже, считал себя чуть ли не королем Швеции, если не самим Господом Богом.
Короче говоря, г-н Пруст просил меня подождать еще немного. Но вдруг в первых числах сентября он, несмотря на войну, которая шла не так уж удачно для нас, решил ехать в Кабур, на Нормандское побережье, как делал это каждое лето. В Париже он чувствовал себя слишком одиноко. Из-за войны в городе не оставалось почти никого из его друзей. Молодые ушли на фронт. Сам он считался непригодным для службы по здоровью, его все равно никуда бы не взяли, даже как волонтера. Женщины и не годившиеся для войны мужчины бежали из столицы, которой, как говорилось, уже прямо угрожали германские армии.
Ах этот багаж и все эти вещи! Дело совсем нешуточное. Ничего не смысля, я упаковывала их по указаниям г-на Пруста. Потом Антуан, консьерж из № 102 по бульвару Османн, отправлял их на железную дорогу. Для самого г-на Пруста предназначался сначала большой чемодан, очень старый и потертый, но все еще весьма прочный, из твердого, как железо, картона, обтянутый бежевой тканью. С первого же взгляда было видно, сколько ему пришлось поездить. Туда положили рукописи. По словам г-на Пруста, при любых переездах он возил все рукописи с собой. Это было самое ценное. С ними он не расставался, и чемодан всегда сопровождал его.
Во-вторых, был еще огромный дорожный сундук на колесиках. В него наваливали одежду, белье и разные рубашки. Г-н Пруст сильно кутался, даже летом, и часто менял белье — дважды он ничего на себя не надевал, так что набралось изрядное количество, в том числе и два пальто.
— Их сшили специально для поездок к морю, — объяснил он мне.
И вправду, я никогда не видела, чтобы он надевал эти пальто в Париже.
Оба были из вигоневой шерсти — одно очень легкое, светло-серое на фиолетовой подкладке, второе каштановое. Для каждого имелась своя шляпа. И еще надо было везти все его одеяла.
— Вы понимаете, — говорил он, — на зиму гостиница закрывается. Как бы они ни проветривали, их одеяла пахнут нафталином, и мне это неприятно.
Наконец, для его астмы бралась целая аптека.
В конце концов, мы все трое садимся в поезд — я рядом с г-ном Прустом, швед (кажется, его звали Эрнест) в соседнее купе. На дорогах царил хаос, у нас ушла уйма времени, совсем не так, как до войны, к чему привык г-н Пруст. Когда мы приехали, он уже очень устал, но был доволен, что оказался в своем «Гранд-Отеле» и в своей привычной комнате — № 137, если мне не изменяет память.
В гостинице его приезд стал чуть ли не праздником. Сразу было видно, как его любили, уважали и восхищались им. Каждый старался по мере сил угодить ему. Здесь он был у себя дома. Они перебрали все комнаты, чтобы подобрать для него самую удобную.
Все было, как в прошлые годы, объяснил он, разве что еще больше людей, которые оставили свои загородные дома из-за начавшейся войны.
Помню большую террасу на первом этаже, выходившую к морю. И еще то, что приходилось забираться на самый верх. Там были три комнаты с окнами на море. А над ними еще одна терраса, куда на время пребывания г-на Пруста из уважения к нему никого не пускали.
— Мне не нужны соседи, тем более у меня на голове, — объяснил он. — Для вас, мадам, будет комната рядом с моей, как прежде у Никола. А другую займет Эрнест.
При каждой комнате была своя ванная, которая изолировала ее от шума в коридоре. Первой шла его комната, потом моя и потом Эрнеста, причем у г-на Пруста не самая лучшая. В ней большая постель, несколько стульев и столов, на которых лежали его тетради и книги. Ничего необычного. Не было ни печи, ни камина, на зиму гостиница закрывалась. Из окна была видна дамба, вдававшаяся в море.
У него не полагалось нарушать уже заведенный порядок, и он сказал мне:
— А вы займитесь моим кофе.
Но для этого мы ничего с собой не взяли, однако на этаже в конце коридора был устроен буфет, которым пользовалась прислуга, и здесь я каждый день готовила кофе в их же посуде; все старались, чтобы у меня все было под рукой. Он как-то сказал мне:
— Раз уж здесь нет звонка, я буду стучать вам в стену.
Таким образом жизнь наша устроилась почти по-парижски. С утра абсолютное молчание, он отдыхает. Затем, если я ему нужна, стучит в стену, как это было у него с его бабушкой, когда они приезжали вдвоем в Кабур, что описано в «Содоме и Гоморре». Он делал окуривание, я приносила кофе. Потом еще немного отдыха или работы с тетрадями. Он много лежал, как и в Париже. Случалось, что вечером выходил к ужину, но никогда не обедал.