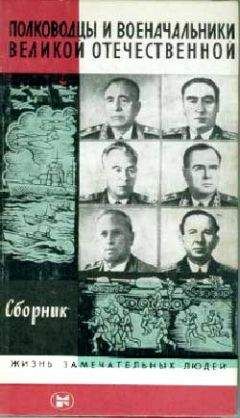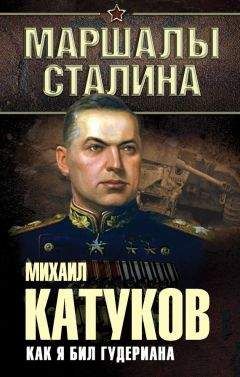Владислав Бахревский - Никон (сборник)
– Так ведь устраиваем, – сказал Ртищев. – Митрополит Петр Могила предлагал еще в сороковом году открыть школу, да умер. А Мелетий-грек о школе в Москве говаривал еще в 1593 году. Тогда мысль его не привилась. Правду сказать, в учителя-то иной раз набиваются люди не к учению рьяные, а к деньгам. В первый год царствования Алексея Михайловича приехал царьградский митрополит Венедикт. Такое порассказывал про школу, заслушались. Да скоро сообразили, что человек этот враль и невежда. Выпроводили мы его из Москвы, а на дорогу попросили учителем впредь не называться. Я вот ныне два хора из Киева выписал. Один в Андрониковском монастыре поет. Восемь человек всего, но поют, как ангелы. Эти, думаю, останутся, а другой хор побольше, в нем двенадцать певчих, и тоже очень хороший, но побыли четыре месяца и домой запросились. Говорил я с ними и денег давал – ничего слушать не хотят. Нашим певчим есть чему поучиться у киевлян, и учатся. Уж я об этом позаботился.
– Что ты молчишь, сын мой? – спросил Аввакума Стефан Вонифатьевич.
Аввакум покраснел, крякнул в кулак.
– Мой совет перед вашими рассуждениями глуп. Вы люди большие, а я простой поп. Я слушаю.
– Ну, мы-то друг другу уже и надоели! – засмеялся Ртищев. – Со Стефаном Вонифатьевичем ночи напролет спорим, до петухов. Нам дорого новое слово.
– Про учение-то? – Аввакум вытер ладонью вспотевший лоб. – Веровать надобно! Без веры премудрая учеба – соблазн, и погибель, и усугубление лжи. Для еретика премудрость все равно что дьяволу позолота на рога. Крест Христов – вот лучшая учеба. Крест – наше истинное древо жизни, бессмертие и разум. Василий Великий речет: «Не прелагай пределы, яже положиша отцы!» И я Василия слушаю.
Аввакум уперся ладонью себе в грудь, пальцы растопырил, глазами в дальний угол, никого уже не видит, не слышит.
– Всякое словесное своевольство из божеских книг нужно выскоблить. Тут мы к грекам-то в ножки и бух! Спасайте, ученейшие. А с греками тоже надо ухо востро держать. Читал я одно посланьице. «Вы, греки, – написано там, – разгордились над прочими народами православными. А зря! За ваше высокоумие Бог вас отринул и царство ваше предал басурманам. И чего же вы в учителя-то претесь, когда сами под басурманом живете и сами себя просветить не можете. Было у вас христианство, да миновалось».
Сказал все и поник, словно воздух из пузыря выпустили. Стефан Вонифатьевич улыбался.
– Ах! – вздохнул он. – Ах ты господи! Молодо, но не зелено.
– Не про то, не про то мы нынче заспорились! – в сердцах зашумел Неронов. – Ты вот, Федор Михалыч, скажи, отчего это государю так уж люб новгородский митрополит?
Бесхитростной речью застал Ртищева врасплох. Ртищев знал, в чью сторону клонит казанский протопоп, а тот и не думал играть в словесные загадки.
– Помните, за что гонители Христовой веры убили святого Стефана? За то, что спросил: «Кого из пророков гнали отцы ваши?» Так же и со Стефаном Вонифатьевичем. Вот он говорит: кроме российского языка, нет нигде правоверующего царя. Читай: стало быть, и веру истинную нечего искать за морем. Никон тоже на греков всегда сердит была, приехал патриарх Паисий, подарил ему свою мантию, и все греки у него тотчас хороши стали. На многолетиях вместе с московским патриархом и греческих поминать разлетелся.
– То повеление государя. Зачем все на Никона валить? – строго сказал Ртищев. – Никон муж достойный и величавый.
– А у государя-то сие греколюбие не от Никона ли?! – вскипел Неронов.
– Напрасно ты шумишь, Иван, – кротко улыбнулся духовник царя. – Патриарший клобук не по моей голове. Я для патриарха и силами слаб, и умом, и верою. Нет, не гожусь я в патриархи. Мне моя шапка по голове.
– Та, которую тебе Никон подарил, что ли? – усмехнулся Неронов.
– А чем плоха его шапка? – Стефан Вонифатьевич принес омофор, в дорогих каменьях, с жемчугом.
– Говорят, когда Никон прибыл в Новгород на митрополию, – сказал Ртищев, – он прежде всего поехал в Хутынский монастырь попросить благословения на пастырское святительское деяние старца Аффония. Аффоний же сам потребовал Никонова благословения: «Благослови мя, патриарше Никон».
– Слышали про то, сто раз слышали. Сам он это все придумал и сам слух распустил! – Неронов плюнул под ноги. – Господи, ну дай же зрячим их зрю. Поослепли все, хоть и глядят.
– А каково тебе будет, если слова провидца Аффония сбудутся промыслом Божиим? – незлобиво откликнулся Ртищев.
– Я и сам все знаю. Кого государь пожелает, тот и будет. Да Бог милостив! Покуда не свершилось худое, буду за доброе стоять.
Стефан Вонифатьевич укоризненно покачал головой и обратился к Аввакуму:
– В Москву за делом или ради праздника?
– У нас одно дело, – снова закипел Неронов, – кто Богу служит, об одной душе помня, тот воеводам нашим, мздоимцам и погубителям правды, не люб. Воеводам любо прибежать в церковь, кралю высмотреть, и тут чтоб и службе конец. Чем скорей служба, тем милее служака.
– Попам ныне совсем горько, – сказал Аввакум. – Боярин Василий Петрович Шереметев прошлым летом в Волгу меня велел кинуть за то, что сыну его Матвею-бритобратцу благословения не дал. Воевода у нас что ни год новый, и от каждого я претерпел. А неделю тому толпой пришли и погнали из Лопатищ прочь. Ныне я поп без церкви, семьянин без дому.
– Будет тебе и дом, и церковь! – сказал Стефан Вонифатьевич. – Не горюй о потерянном, Бог страдальцу за правду вдвое дает и втрое. – И спохватился: – На службу пора собираться. Ты, Аввакум, в моей нынче церкви помолись. Скажу о тебе государю.
3«Господи, помилуй!» – твердил про себя Аввакум, следуя за Стефаном Вонифатьевичем в Благовещенский собор. Год назад на Пасху он видел царя в доме Ртищева, царь христосовался с ним, но то было другое дело! Тогда царь сам пришел в дом Федора Михайловича, а тут вели в святая святых – в церковь, где государь Богу молится. Молитва государя твоей не ровня. Ты за свои грешки лоб прошибаешь, а государь за всю Русь, за всю вселенную и за каждую православную душу милосердия у Бога просит. Подумать и то страшно, какая на нем, милом, превеликая ноша – за всех-то людишек, за весь-то мир быть в ответе. Как же это молиться-то надо!
Аввакум за протопопом, как слепец за поводырем, тыркался. Стефан Вонифатьевич, заведя его в собор, ушел облачаться, и Аввакум прирос к месту, боясь лишнего шага ступить. У него только и достало силы поднять глаза от пола. И первое, что он увидел в храме, – светящееся из-под голубого и темно-синего одеяния золотое лицо Богоматери. Она, кажется, и заплакать была готова, и улыбнуться, веруя, что грозный сын ее, осудив мир, простит. Всех простит!
Смелея духом, Аввакум возвел глаза на Золотого Спаса и прежде всего углядел совершенную руку Бога с длинными перстами, сложенными для архипастырского благословения. Лицо Спаса было драгоценнейшего темного золота, и глаза у него были – все то же золото, черные, с яростной золотой искрою зрачки проходили сквозь личину взирающего, к потаенной душе, и через этот проникший в тебя взгляд отворялась бездна вселенского бытия!