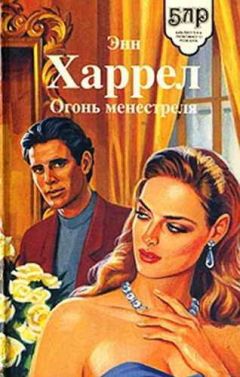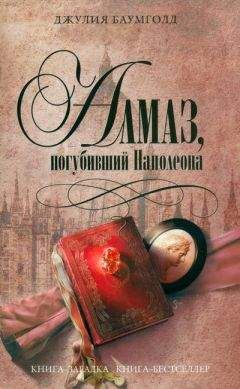Лео Бретхольц - Прыжок в темноту. Семь лет бегства по военной Европе
Я почувствовал, что силы мои иссякают. Правила человечности в мире были отменены, и я был сильно испуган и полон противоречивых переживаний. Быть отверженным только за то, что ты еврей, — вне всякого здравого смысла, но нас преследовали и подвергали наказаниям в любое время дня за один только этот факт. Однако, видя других евреев пойманными в сети насилия и понимая, что каким-то непонятным образом пока избежал этого, я испытал странное чувство: может быть, эти жертвы были другим типом евреев; может быть, евреев моей породы они не забирают. Должно быть, я отношусь к лучшему виду евреев: сильнее, здоровее, выносливее — не такой, как те, которых наказывали. Эти безумные размышления были краткосрочным предохранительным клапаном от моих страхов. В конце концов они заберут нас всех.
Когда я в темноте брел по городу, я услышал вдруг, как маленькая группа людей с дикой радостью орала: «Германия, проснись! Жид, подохни!» — и содрогнулся.
Неожиданная жестокость все больше охватывала Вену. Взяли мужчин из больниц, среди них и недавно прооперированных, и отправили в концлагерь Дахау. Некоторых наших соседей арестовали, и никто их больше не видел. Мы слышали, что их прах был отослан семьям. Прах дяди и кузена моего друга Роберта Гохмана был отправлен к ним домой. Семьи должны были письменно подтверждать получение этих посылок. Им сообщали: «Ваш муж был болен». Или: «Ваш муж покончил жизнь самоубийством». Некоторым сообщали: «Ваш муж был арестован и пытался бежать. Вот его прах». Семьи никогда не были уверены, чьи именно останки они получили.
Как-то в начале лета мы попытались поговорить с нашими соседями, которых знали уже много лет. Они не были евреями. Раньше мы часто ходили в гости друг к другу, мы помогали им украшать рождественскую елку. Мы не хотели никаких политических объяснений, а просто искали сочувствия и ободрения, но напрасно.
Казалось, кто-то в Австрии как бы снял верхний слой и обнажилась сама суть австрийского антисемитизма, который был намного сильнее, чем мы могли себе вообразить. И наши соседи в этот момент были просто захвачены этим или слишком запуганы, чтобы утешить нас.
Они не хотели, чтобы кто-то видел, как они разговаривают с нами. Дружба с евреями осталась в прошлом. Хотя актов насилия на улицах стало меньше, наше ощущение изолированности день ото дня возрастало вместе со страхом быть однажды выкинутыми на улицу.
После Первой мировой войны Вена столкнулась с проблемой острой нехватки жилья. Когда немцы вошли в Австрию, дефицит составлял примерно семьдесят тысяч квартир, и они решили воспользоваться этой ситуацией в полной мере. В Вене было создано эмиграционное бюро. Его руководитель Адольф Эйхман принудил еврейских представителей оказывать ему помощь. Состоятельные евреи обязаны были финансировать изгнание неимущих евреев. Солдаты стали владельцами тридцати пяти тысяч принудительно освобожденных еврейских квартир. Немцы бесчинствовали. Испуганные евреи изгонялись из своих квартир и должны были искать себе новое место для жизни, каких-нибудь родственников, кто мог бы их принять. Но именно тогда многие страны закрыли для них свои двери. Раз другие страны отказались принимать евреев, значит, с нами должны были что-то делать внутри границ занятых Германией территорий.
Моя мать настаивала, чтобы я убежал. Уже от одной мысли об этом я чувствовал себя дезертиром. Я ведь был мужчиной в семье. Мой отец ударил человека за то, что тот оскорбил меня. Это — за жиденка. А я, его сын, должен бежать?
Пока еще евреям в Вене можно было жить и каждый день ходить по улицам, но уже происходили стихийные вспышки насилия. Исчезали люди. В первые месяцы после прихода Гитлера более пятисот евреев, среди которых было много пожилых людей, от страха и отчаяния покончили жизнь самоубийством.
Однажды летним вечером, дома, я внимательно рассматривал своих сестер. Генни было тогда шестнадцать лет. Кудрявые волосы обрамляли ее лицо. Она была задумчива и любила природу. Генни мечтала об эмиграции в Палестину. Иврит, распорядился мой отец восемь лет назад. Напротив Генни сидела Дитта, с круглым лицом и волнистыми каштановыми волосами. Ей было десять. Казалось, она купается в своей невинности: болтушка, не интересующаяся политикой, любящая животных и с неудержимым энтузиазмом относящаяся к жизни.
Когда умер наш отец, Дитта была младенцем. В возрасте пяти лет Израильское общество по делам образования и религии (Israelitische Kultusgemeinde) устроило ее в сиротский дом, где она могла жить в рабочие дни недели. После смерти отца мы остались полусиротами, и проживание Дитты в доме для сирот помогло маме в тяжелые финансовые времена.
Дом для сирот находился в районе Дёблинг, на другой стороне Дунайского канала. По пятницам после обеда мы с мамой и Генни забирали Дитту, и она проводила выходные дни дома. Иногда я ходил за ней один, и тогда мы по пути домой покупали мороженое.
— Ванильное, — заказывала она с большой охотой.
— Лимонное и малиновое, — говорил я и радовался, что так легко сделать ее счастливой.
По воскресеньям мы все вместе провожали Дитту назад в сиротский дом. Это была маленькая прогулка в красивый район Дёблинг с элегантными старыми домами.
— Ты должен бежать, — сказала мама, когда мы сидели за нашим маленьким столом и ужинали.
Я резко отказался.
— Вспомни Гохманов, которые получили по почте прах, — убеждала она. — Посмотри на соседа, которого истязали коричневорубашечники. Вспомни людей, стоящих на коленях на улицах. Может быть, однажды ночью и в нашу дверь постучат.
Она приводила столько аргументов, что почва стала медленно уходить из-под моих ног.
Всего за несколько дней до прихода Гитлера мы с друзьями играли в футбол. Но теперь, когда они видели меня, они плевали мне вслед и кричали: «Saujude!» — «Жид пархатый!»
Я оставил гимназию на год раньше срока и перешел в профессиональную школу по электротехнике. В первый день занятий учитель спросил у каждого ученика его имя и имя мастера, у которого тот работал.
— Абрахам Вайнзафт, — ответил я на этот вопрос.
Класс разразился хохотом. Вайнзафт — еврейская фамилия. Реакция класса казалась инстинктивной, как павловские рефлексы. Я покраснел от смущения и почувствовал себя изгоем. Я ожидал, что учитель сделает замечание классу, но он не проронил ни слова.
На улицах я слышал, как молодые люди выкрикивали стишки против недавних своих друзей, которые были евреями: «Jud, Jud, spuck in’ Hut; sag der Mama, das ist gut!» — «Жид, жид, плюнь себе в шляпу; скажи маме, это — хорошо!» Группы еврейских детей слышали из уст сверстников: «Вот идет жидовская школа». На фонарных столбах, стенах и киосках было написано: «Juden nach Palästina!» — «Евреи — в Палестину!»