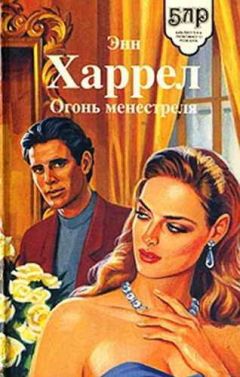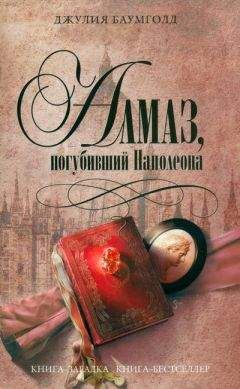Лео Бретхольц - Прыжок в темноту. Семь лет бегства по военной Европе
Когда я однажды во второй половине дня пришел домой, мама спросила меня о настроении на улицах.
— Мама, — ответил я, — это место больше небезопасно для нас.
Дни становились короче. Тете Мине и дяде Сэму удалось покинуть Вену через несколько недель после аншлюса. Из Люксембурга они прислали маме несколько писем. Она ответила им, что хочет, чтобы я бежал из Вены, пока это еще возможно. Пусть Лео приедет к нам, написали они. Я вспомнил, как Мина голосила в день похорон моего отца, и мне показалось, что я и теперь слышу ее стенания, даже из Люксембурга.
— Это же временно, — убеждала меня мама, когда я протестовал. — Лео, я боюсь, что однажды они заберут тебя.
В конце концов я не мог больше противостоять ей и сдался. Медленно начал возникать план: я мог бы покинуть Вену еще до начала зимы. Во вторник, так как по еврейским преданиям вторник — счастливый день. Сначала поехать на трамвае, а потом на поезде. Связаться с кем-нибудь из Комитета помощи Эзра. Найти убежище в немецком городе Трир, куда можно было теперь добраться без паспорта, потому что Австрия стала частью Германии. Затем, в промозглую ноябрьскую ночь, под покровом темноты переплыть реку и оказаться в безопасности.
— Реку? — озабоченно воскликнула мама, когда слушала мой план. Она вспомнила спокойные времена и пикники возле Дунайского канала.
Лео, будь осторожен в воде!
— Мелкую речку, — сказал я. — Это же не Дунай! Знаешь, это совсем маленькая речка. Не переживай, это пустяк, мама.
Пустяк… только река, которую мне нужно будет переплыть в случае, если я найду убежище в Трире, если меня не арестуют на улице, если этот Эзра-Комитет знает, что нужно делать.
Эзра-Комитет — еврейская организация, пытавшаяся помочь беженцам из Германии и Австрии добраться до Люксембурга. В это время повсюду буквально кишели люди, полные отчаяния. Эзра-Комитет мог предоставить убежище и еду, к тому же помочь с документами, чтобы избежать ареста, а кроме того, помогал пересекать границы так, чтобы не быть арестованным и посаженным в тюрьму. По правде говоря, люди из Эзра-Комитета были контрабандистами. Это была одна из подпольных организаций, которые постепенно появлялись тогда по всей Европе.
Днем моего отъезда мы выбрали вторник, 29 октября 1938 года. Я предчувствовал, что нескоро вернусь назад, и поэтому пошел повидаться со своим старым другом Арнольдом Юсемом. Он жил за углом на Ганновергассе. Я был у него в ночь перед тем, как Гитлер вошел в Вену. Я не мог поделиться с ним своими планами, так как обязан был молчать. Но я хотел с ним попрощаться.
— Через несколько дней я уезжаю, — сказал я. — Что нового с Палестиной?
Он всерьез говорил об эмиграции в Палестину.
— Я еще ничего не знаю, — ответил он.
Его овдовевшая мать и младшая сестра стояли рядом и слушали нас. Фрау Юсем, подперев подбородок рукой, внимательно наблюдала за мной. Я чувствовал ее мысли: «Делай то, что тебе необходимо делать, Лео». Она тоже была заботливой матерью и ломала голову над тем, что ожидает ее детей. Мы прощались и делали вид, что увидимся в лучшие времена, хорошо понимая, что этого, возможно, никогда не произойдет. Двери позади меня начали медленно закрываться.
По пути домой я встретил одного парня, с которым был знаком в школе. На нем была белая рубашка и типичные в Австрии короткие кожаные штаны на помочах. Когда мы поравнялись, я кивнул ему и сказал:
— Как дела?
Молча, не говоря ни слова, он повернулся и плюнул мне в лицо, затем быстро пошел дальше и исчез в темноте. У меня перехватило дыхание, а потом хлынули слезы. Австрия, которую я знал, — это цивилизованный старый мир — Вена Шуберта и Штрауса, Гайдна и Бетховена, Фрейда, Шнитцлера и Витгенштейна. Теперь эта Вена породила молодых людей, плюющих в лицо бывшим одноклассникам только за то, что те имели смелость поздороваться с ними. И эта же Вена вынуждала меня сейчас оставить ту жизнь, которую я так любил.
21 октября, в пятницу вечером, в наш последний Шаббат, мои сестры, мама и я сидели вместе за кухонным столом. Мамины глаза были полны слез. Зажигая традиционные субботние свечи, она сказала:
— Произнеси в этот раз благословение вместе со мной.
Свет от свечей подрагивал и мерцал, и нас охватила печаль. Обычно пятница вызывала во мне теплое и счастливое чувство. Мама рассказывала нам, что она делала днем, о счастливых невестах, чьи платья она расшивала. Истории моей сестры Дитты были о том, как она провела неделю в доме для сирот. Но сегодня стояла полная тишина, которая была нарушена только жалобным вопросом Генни:
— Мама, почему ты ничего не говоришь?
— Я должна объяснять?
Два дня назад мы получили из Люксембурга письмо. Подготовка к побегу была закончена. Я взглянул на маму и увидел женщину, состарившуюся раньше времени, а теперь еще и я увеличивал ее бремя. Я вспомнил все тяжелые, полные забот годы после смерти моего отца. Моя мама была очень отзывчивым человеком. За углом от нас жил маляр, господин Фрид. Когда нужно было красить нашу квартиру, мама звала его. Это был ужасный маляр. Ужасный, соглашалась мама, но у него дома пять детей. На вновь выкрашенных стенах были видны полосы. Он оставлял после себя в квартире полный хаос. Тем не менее находился кто-нибудь, кто заботился о бедном господине Фриде и его семье.
Теперь я спрашивал себя: кто позаботится о моей маме? В свои сорок три года она была изнурена тяготами жизни; ее волосы поседели, а глаза казались очень старыми. Я хотел снова слышать, как песни слетают с ее губ, слышать оперетты, которые бы она тихонько напевала. Я хотел, чтобы она еще, последний раз, ощутила объятия моего отца. Я хотел, чтобы дядя Мориц был снова здесь, и тетя Мина с ее драматическими сценами, и даже дядя Давид, несмотря на его потливость. Но в эту ночь только грусть наполняла нашу маленькую квартиру, и было чувство, что мир, который казался спокойным и безопасным, полностью исчез.
Последние выходные, которые я был дома, принесли новые огорчения. Мою младшую сестренку Дитту забрали на скорой помощи в детскую больницу на Лазаретгассе. Она заболела скарлатиной. Ее оставили в больнице на несколько дней, и во вторник после обеда, перед моим отъездом, мы с мамой и Генни пошли ее проведать. Я чувствовал, что слишком много нитей выскользнуло из моих рук, что я теряю контроль над ситуацией, ощущал беспокойство за семью и понимал, что я отваживаюсь выйти в огромный беспокойный и незнакомый мне мир.
Дитта была моей любимицей. Она была не только младшей сестрой, но и добрым ребенком, которого мне инстинктивно хотелось защищать.
— Я не могу уехать, — сказал я маме, — пока Дитте так плохо.