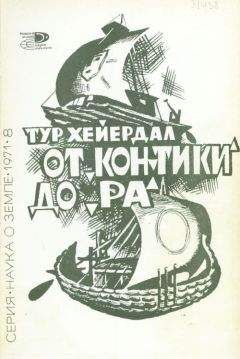Тур Хейердал - По следам Адама
Загрязнение окружающей среды? Где угодно, только не в крошечном городишке Ларвик. Его белые деревянные домики стояли на крутых склонах гор, а ветер приносил из леса чистый прохладный воздух. Тысячи окон смотрели на фьорд, а тот в свою очередь выходил в океан. Городок жил за счет моря и леса, в том числе за счет добычи китов в Антарктике. От пристани во все концы света уходили за горизонт корабли. Позади города рос единственный в Норвегии приморский лес, а вдоль озера Фаррис и далее, до далеких внутренних гор, тянулись бесконечные сосновые боры. Промышленность была представлена бумажной фабрикой Трещова, судоремонтной мастерской Альфреда Андерсена да пивоварней, наполнявшей воздух около городской площади приятным ароматом. Улицы регулярно подметались, а черный как смоль трубочист регулярно чистил трубы. В моем самом раннем детстве с улиц ежедневно убирали конский помет. Если рядом с лесной тропинкой вы видели брошенную корку от апельсина, обрывок бумаги или ржавую консервную банку, возмущению вашему не было границ. Во всех ручьях текла питьевая вода.
Идеальное место для детей. Почти при каждом доме имелся задний дворик для игр, сады были обнесены деревянными заборами, по которым так здорово лазить, а в лесах и на пляжах можно было гулять, где угодно.
Мои родители переехали туда из главных, по их мнению, городов Норвегии: отец из столицы, Осло, тогда еще Христиании, а мама из Тронхейма. В таком маленьком городке, как Ларвик, наша семья наверняка служила темой для пересудов. Развод в те годы считался чем-то, свойственным исключительно миру богемы. А моя свободомыслящая мама прошла через два развода, в то время как более консервативный отец развелся только один раз, чтобы жениться на ней.
Отец, способный бизнесмен, открыл собственную пивоварню. Когда он начал разливать по бутылкам местную минеральную воду, то получил разрешение короля Хокона назвать напиток его именем. Затем он объединил усилия с коллегой, и их общая пивоварня стала единственной в городе. Другая стояла заброшенная, и мы, мальчишки, замечательно играли в ее больших темных цехах, сводчатых погребах, опустевших конюшнях и на просторном дворе, обнесенном высоким деревянным забором. Тем более что она напрямую примыкала к заднему двору нашего дома.
Именно там я впервые почувствовал себя самостоятельной личностью, а не частью теплого материнского тела. Осень, вечер, начало Первой мировой войны. Кажется, я даже помню завывания осеннего ветра и хлопанье веревки на флагштоке во дворе. Я боялся темноты и вообще был трусоватым мальчиком.
— Ты, которого так все защищали?
— Возможно, именно поэтому. Мои родители были немолоды. Они так боялись, что с их единственным ребенком случится какая-нибудь беда, что у меня создалось впечатление, будто опасность скрывается повсюду. Другим детям разрешалось одним ходить в порт и играть на улице после темноты. Но не мне. Другие мальчики могли вытесать топором биту, вырезать острым ножом лук и стрелы. Но не я.
Если мои родители в чем-то и соглашались друг с другом — кроме подхода к моему воспитанию — так это в их вере в прогресс. Папа — потому что и его отец, и его дядя одними из первых в Норвегии использовали электроэнергию и сельскохозяйственную технику. Мама — поскольку была дарвинисткой и не сомневалась, что прогресс со временем принесет еще более замечательные плоды. Когда мы с отцом рассматривали его семейный альбом, он рассказывал, что его предки пришли из дремучих лесов на границе со Швецией и что среди них можно проследить двенадцать поколений землевладельцев, пока его отец и дядя не перебрались в столицу и не основали компанию «Хейердал и компания». Они провели первую в стране телефонную линию между офисом фирмы и складом. Отец хранил вырезки из столичных газет 1880 года с рассказом о том, как жители города впервые увидели электрическую лампочку:
«И по всей улице Карла Юхана, насколько можно видеть, стоя у пожарной части, горел свет, похожий на сияющую звезду и так же не похожий на желтые и тусклые газовые лампы, как свет газовой лампы не похож на свет лампы масляной».
Два года спустя их ждал главный триумф: мой дед, майор национальной гвардии, шел впереди королевской процессии, а два его брата зажгли два электрических фонаря перед входом во дворец. Газета «Афтенпостен» писала: «Словно по мановению волшебной палочки, возник из темноты дворец, сияя, будто под лучами солнца. Все собравшиеся восторженными криками отозвались на неожиданное возвращение из ночи в день».
— И вот, спустя два поколения, ты отказываешься от спичек, чтобы стать ближе к природе?
— Возможно, я унаследовал еще кое-что и от матери. Ее семья, наоборот, стремилась уйти подальше от городской жизни. Ее старший брат изучал теологию и мечтал стать деревенским священником. Его отличала большая рассеянность. Свою первую службу он проводил в годы объединения со Швецией. Он сложил руки и вместо «Наш Господь во облацех…» почему-то начал: «Наш Господь во Швеции…» Подобное заявление не могло встретить теплого приема среди норвежских фермеров того времени, и его отец увез сына назад в город. Двое других братьев моей матери изучали философию в Германии. Вернувшись в Норвегию ярыми последователями Руссо, оба купили по наделу земли в глуши Силенских гор. Один через какое-то время сдался, другой — нет. Мама получала от него письма, в которых он описывал себя сидящим на телеге, полной навоза, и с томиком Шопенгауэра в руках. Его дети построили автомобильную дорогу, чтобы приобщить долину Тидален к цивилизации.
Уже в раннем возрасте я начал сомневаться, правильно ли мы понимаем слово «прогресс»?
Сперва оно означало движение вперед к чему-то лучшему, но едва будучи произнесено, вырвалось из-под контроля и приобрело смысл решительного расставания с природой. Мы достигли того, что забыли свой долг перед породившей нас природой. Мы — часть природы, она в нас и вокруг нас, независимо от нашего мнения о собственном месте в мироздании.
Непросто объяснить, почему в таком раннем возрасте я начал подозревать, что, нанося вред окружающему миру, мы можем навредить себе. Возможно, дело в том, что с самого детства я привык воспринимать мир вокруг себя как нечто неустойчивое, постоянно меняющееся. Мать постоянно говорила о Дарвине, об эволюции. Ничто не казалось мне вечным.
Мама потеряла свою мать в детстве, и с тех пор у нее были сложные отношения с Иисусом. Ее мать, болезненная женщина, часто говорила, как ей не терпится снова встретиться с Христом. В юности маму отправили учиться в Англию, и вернулась она убежденной дарвинисткой: все, в том числе и люди, от поколения к поколению становятся лучше и умнее. Отец, в отличие от матери, был не столь вольнодумен. Из Германии, где он учился пивоваренному делу, он вывез убеждение Мартина Лютера, что Господь создал этот мир и не в людских силах изменить его. Он с радостью принимал жизнь такой, какая она есть, и не тратил времени на неразрешимые проблемы. Он никогда не произносил таких слов, как «Бог» или «Иисус», но возносил свои молитвы некоей силе на небесах и, похоже, в равной степени уважал и того, и другого.