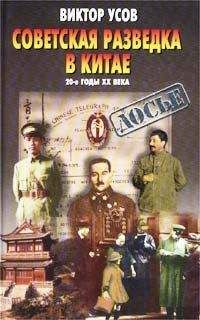Людмила Бояджиева - Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»
Выбралась из «Москвича» — грузная, тяжелоногая, набирая песок в низкие туфли, и увидала зеленый невзрачный домик под соснами. Огляделась: песок и лес торчащих шершавых бревен, высоко где-то раскачивающий колючими шапками. Одиноко, неприглядно. Тяжело села на ступеньки крылечка «усадьбы», с трудом распрямила разнывшиеся за время поездки колени и чуть слезу не пустила: «последний приют» больше походил на ссыльное место, чем на дачу для отдыха. Или собачий домик. И куда подевались воспоминания о «сталинском ампире»? Ну что им стоило хоть загогулину резную над окном прибить? Равнодушной к жилищной эстетике Ахматовой собственный дом хотелось бы видеть повнушительней. Из чувства гармонии. После Фонтанного-то дома…
— Ну как, подходят хоромы? Здесь у всех такие, кто не семейный, — объяснил сопровождавший.
— Хорошая будка. Чего еще надо старой собаке?..
— Ключи дать, аппартаменты смотреть будете?
— Не надо ключей. Чего смотреть? Так беру. — И пошла к машине, жалея, что не дождалась Ардовых.
В Москве печалилась Нине Ольшевской:
— Там сосны, а я к ним в Царском не привыкла. Они ж все солнце заслоняют и шумят, тревожно так, сумрачно. А песок… Из ушей и из носа сыпаться будет. Вдобавок к тому, который Фаина называет «выхлопным».
— Да что вы, Анна Андреевна! Сосновый лес — самый здоровый! Там и воздух, и сушь, и земляника, и грибы, — заверил Алеша Баталов. Он умел говорить очень убедительно.
— Грибы? Вот уж занятие — с моей комплекцией с лукошком по коряжинам прыгать! Все кусты переломаю, — уже улыбалась Анна Андреевна, поверив и в землянику, и в грибы.
К следующему визиту (уже в компании Ардовых, Пуниных) природа выставила иные декорации — праздничные: лес был пронизан солнцем и птичьей трелью, что-то краснело рубиновыми гроздьями в редколистых кустах… А ромашечка! Что за прелесть эта ромашечка!
— Леш, ну ты только глянь! — Анна Андреевна торжественно оборвала последний лепесток: — Лю-бит!
— Кабы один! Тут всего поля не хватит. Придется у вашей крепости наряд выставлять, — с улыбкой опечалился Алексей.
— А вот вам специальный подарочек — не от Союза, а от матушки-природы. — Ольга отошла от крайней сосны, корни которой прикрывала растопыренной юбкой-клёш. — Как подготовились?
— Красота-то писаная! Чудеса в решете. Рыжики? — склонилась Анна Андреевна.
— Лисички. Они стайками растут, никогда червивыми не бывают, а на вкус — сладкие.
Кряхтя, дама в лиловом нарядном платье села прямо на ковер сосновых игл, сняла с шеи иностранной расцветки платок, расстелила на траву и стала собирать в него грибы, осторожно выкручивая ножки, а не вырывая, чтобы не повредить грибницу, — как учили в Слепнево.
Потом аккуратно чистила, затем жарила…
Жизнь среди сосен сложилась: «будка» стала любимым домом «странницы», сосны — подругами. Мебелишку — не богатую, но самую необходимую — в комнатки завезли, книги и вещички Акумы переправили. И не зарастала с тех пор к зеленой Будке народная тропа. Анна Андреевна повадилась собирать лисички, любила застолья и даже проследила, чтобы были посажены цветы — причем многолетние.
В Будке ее опекали Лев Аренс с женой. Аренс, брат первой жены Николая Пунина, великолепный старик с длинной седой бородой, с раннего лета ежедневно отправлялся на велосипеде купаться в холодном Щучьем озере, расположенном неподалеку…
Именно в Комарове Анна принимала обычно гостей из-за границы, и там же летом 1962 года на даче профессора Алексеева она встретилась с американским поэтом Робертом Фростом…
Осенью следующего года ей передали английский журнал с очерченной карандашом статьей: «В северном вестибюле Национальной галереи в Лондоне, — прочла Анна Андреевна, — открыта серия напольных мозаик Б. В. Анрепа «Современные добродетели». На мозаичном панно «Сострадание» изображена русская поэтесса Анна Ахматова, спасаемая ангелом от ужасов войны». Через час ей уже звонили с поздравлениями из английского посольства.
Анна с успехом встретилась с делегацией английских студентов в ленинградском Доме писателей. Ее стихи знали в переводах, впрочем, эти юные филологи достаточно понимали русский, чтобы послушать, как читает сама Ахматова. Ее голос и облик произвели настолько благородное впечатление, что о выступлении Ахматовой заговорили в верхах. К тому же мозаика Анрепа «Сострадание», изображающая молодую поэтессу под защитой Ангела, вызывала повышенный интерес к этой «посланнице мира». Найдя момент подходящим, Анна Андреевна подала ходатайство по пересмотру уголовных дел Льва Гумилева.
В декабре в качестве делегата Ахматова присутствовала на Втором съезде писателей, а в мае 1956 года, во многом благодаря хлопотам Александра Фадеева, на четыре года раньше срока был освобожден из лагерей ее сын.
Летом 1956 года, когда Ахматова гостила у Ардовых, ей позвонил Исайя Берлин, находящийся в Москве, и попросил о встрече. Разве она могла согласиться теперь, едва вызволив сына? Ахматова отказалась повидаться с Берлиным, но их телефонный разговор и невозможность встречи всколыхнули воспоминания о знакомстве в 1946 году. Теперь единственной формой их общения могла быть «невстреча». И прекрасные свидания в поэтическом пространстве — тогдашнем «виртуале» для умеющих «летать» в сферах вымысла. В цикле «Шиповник цветет», посвященном Исайе Берлину, эта «несостоявшаяся встреча», которая «еще рыдает за углом», будто придала Ахматовой силы вынести все, что бы ни уготовила ей судьба:
Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.
Мне с тобою как горе с горою…
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.
Глава 8
«Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью». А.А.
Из лагеря Лев вышел с убеждением, что мать ничего не делала для облегчения его участи — ведь ей, такой знаменитой, не смогли бы отказать.
Лев Гумилев, которому было уже под пятьдесят, провел четырнадцать лет своей жизни в лагерях и тюрьмах только лишь потому, что был сыном своих родителей — Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Они с матерью были во многом очень схожи, что не способствовало мирному сосуществованию. Вырвавшись наконец, на свободу, он жаждал жить своим умом. Мать, глубоко обиженная сыновней непочтительностью, тоже с не меньшим упрямством настаивала на своем. Пока они жили вместе, их отношения были очень натянутыми. Никакой материнской радости, о которой Анна Андреевна мечтала, дожидаясь сына из заключения, ей так и не перепало. Даже ощущения родной кровинушки, если честно говорить, не было. Чужой человек — взрослый дядька, ершистый, пожизненно ожесточенный на нее, все делавший наперекор. Конечно, умен, и успехи в науке, несмотря ни на что, — поразительные!