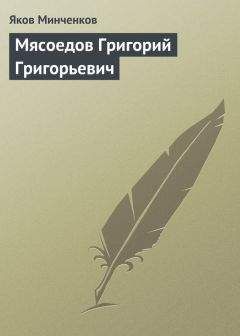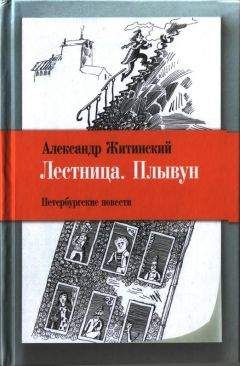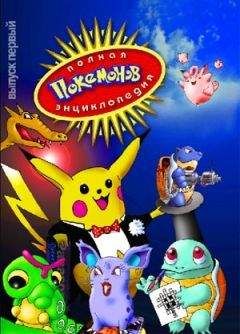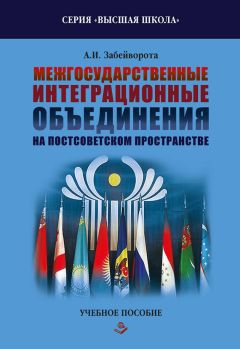Александр Житинский - Дневник maccolita. Онлайн-дневники 2001–2012 гг.
Даю документы. Нет, говорят, не отдадим машину, доверенность у вас от владельца написана от руки. Нужна нотариальная.
– Как? ГАИ разрешает! – кричу я.
– А мы не ГАИ. Они вам разрешают водить по доверенности, а мы вам собственность чужую возвращаем!
Короче, не уломал, хотя ругался по телефону с их начальством. Звоню жене и час жду, пока она приедет. Наконец оформляем возврат, платим 3854 руб. и счастливые садимся в машину.
И в этот самый момент – звонок из «Геликона», где давно уже отмечают День защитника Отечества, но меня не ждут, поскольку знают об эвакуаторе.
– А. Н., у нас ОБЭП, – говорят.
– Кто? – я не понимаю.
– Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Вовремя подоспели, называется. Чтобы жизнь не казалась карамелькой.
Трубку берет ОБЭП и представляется. А также добавляет, что, по их мнению, в наших 15 компах содержится контрафактное программное обеспечение и они сейчас садятся составлять протокол.
– А мне что делать? – спрашиваю я. – Какова моя роль?
– Вы должны представить нам документы на право пользования этими программами.
– Сейчас? – уточняю я (времени 18 часов, предпраздничный день).
– Да, конечно.
– Хорошо, сейчас буду.
Приезжаю в «Геликон». Два приятных молодых человека показывают прекрасно изготовленные удостоверения, где они оба в форме лейтенантов милиции.
Я ничего не показываю.
И начинается долгий разговор. Типа я готов предположить, что в части наших компов действительно есть что-то нелицензионное. Но давайте сразу не будем это фиксировать. Дайте мне время подготовить документы и проч.
Они говорят – нет. Это наша работа. Мы выявили, должны запротоколировать.
– А дальше?
– А дальше вызываем группу поддержки, они снимают на видео, опечатывают системные блоки и увозят на экспертизу.
– Все?
– Все, – отвечает неумолимо.
– А дальше? – моя любознательность не знает границ.
– А дальше суд. Статья уголовного кодекса…
Он называет статью, но я не запомнил.
Ослепительная картина суда, шума в прессе, скандала, пикетов с транспарантами «СВОБОДУ МАССЕ!», Крестов в общей камере, отсидки, лишения прав с конфискацией и проч. вихрем проносится у меня в голове.
– Да вас не посадят. Еще никого не сажали по этой статье, – словно угадав мои мысли, успокаивает меня ОБЭП.
– Пусть я буду первым! – гордо говорю я.
Короче, они меня пугали около 40 минут. Потом, переглянувшись, свернули бумаги, хотя до этого уже раза три буквально набирали номер «группы поддержки».
Спектакль был разыгран исключительно грамотно.
Я им подарил по книжке с автографом. Обменялись рукопожатием. Я пока на свободе, но они попросили, чтобы в следующий раз я подготовился получше.
Нет, не в том смысле, что вы подумали.
В смысле лицензий.
Александр
9 марта
Давно хотел написать об этом, а может, уже и написал. Тогда буду повторяться.
Вообще-то мне мое имя Александр – нравится. Особенно когда оно стоит на обложке моей книги. Фамилия нравится значительно меньше. Да и Александров много было великих, это как-то мобилизует.
Но в быту имя очень неудобное. Ну представьте, чтобы мать звала своего сына: «Александр, иди завтракать!» При таком обращении хочется применить вежливую форму: «Александр, у вас опять двойка по физике!»
Звучит смешно, согласитесь.
Поэтому в русском языке для Александра, как и многих других имен, придуманы уменьшительные формы – Шурик, Шура, Саша. Вот меня так и звали с детства родные и друзья – дома Шурик, в школе – Саша. И никто не называл Александр.
Когда я повзрослел и молодость слегка отодвинулась в прошлое, всё чаще стало возникать обращение по имени-отчеству. Его я принимаю спокойно, особенно теперь. И надо сказать, люблю эту манеру обращаться к человеку по имени-отчеству, принятую когда-то в России по отношению даже к молодым людям. Вспомните романы Достоевского. Там все называют друг друга так – и это создает какую-то особую атмосферу.
Но сейчас эта манера прошла, такое обращение к очень молодому человеку часто звучит иронично, а то и издевательски.
Однако обращение ко мне лишь по имени, но на «вы», меня почему-то коробит.
Это не русская манера, она американская, там у них отчество вообще не принято. Кроме того, помню, что в былые времена, когда мне было лет 35–40, так ко мне обращались исключительно комсомольские работники. В 1977 году ездил я на месяц в стройотряд под Питером и жил там, работая в районном штабе ССО. И приезжавшее к нам комсомольское начальство так ко мне и обращалось: «Александр, вы выпьете водки?» Мне почему-то это не нравилось. Свои-то, двадцатилетние члены районного штаба, звали меня по имени-отчеству, все же разница в 16 лет.
С тех пор обращение ко мне «Александр» и на «вы» создает некий дискомфорт. И отнюдь не потому, что это недостаточно уважительно. Это излишне помпезно, вот в чем причина.
Друзья и знакомые – те, кто почему-то не могут или не хотят перейти со мною на «ты», – обычно называют по имени-отчеству, но иногда употребляют слово «Николаич» – и тогда на «ты». Так уже 20 лет зовет меня жена, для которой перейти от первоначального Александра Николаевича (так она меня называла первые месяцы нашего знакомства) к Саше и тем более Шурику оказалось делом трудным, и она остановилась на отчестве, просто проигнорировав имя.
В Интернете же, где слишком официальное «А. Н.» как-то не катит, часто обращаются именно по-комсомольски (по-американски), хотя более всего меня в этом случае устраивает обращение «Масса» и на «вы», чем многие и пользуются.
Я же с годами приобрел отвратительную привычку называть почти всех по имени и на «ты», правда, я обычно предупреждаю об этом и предлагаю обращаться ко мне таким же манером. На что иногда соглашаются молодые девушки, что мне крайне льстит, юноши же предпочитают уклониться.
Короче, остановимся на Массе – и все будут довольны.
16 лет назад
17 марта
Сегодня – день рождения моей младшей дочери Насти. Ей исполнилось 16 лет.
Она родилась ровно неделю спустя после того, как корабль «Константин Симонов» причалил в Гавани Санкт-Петербурга, привезя домой около 70 питерских писателей, членов Союза, которые 17 дней подряд плавали по Балтийскому морю вместе с писателями из других балтийских стран общим числом 300 человек.
Их кормили, поили, показывали достопримечательности.
Маршрут был такой: СПб – Таллин – Гданьск – Любек – Копенгаген – Висбю – Стокгольм – Хельсинки – СПб. В каждом городе по 1–2 дня.
Я был директором этого круиза. И моя жена Лена тоже в нем участвовала – и не просто как пассажир, а как работник круизного штаба.