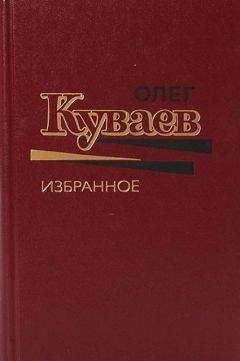Олег Куваев - Избранное. Том третий. Никогда не хочется ставить точку
Единственное средство писать хорошо — быть убежденным, что ты пишешь сейчас дерьмо, но способен сделать лучше. Это правило, не знающее исключения для прозаика. Если у тебя хватит терпения на школу, ты будешь писать. Я ведь зачем быстро сунул нос в твою рукопись — мне надо было охватить впечатление. И когда я с первых трех страниц увидел ошибки, которые обязаны были быть, на душе, ей богу, потеплело. Ибо никто, опять таки, мимо этих ошибок не проходил и, значит, ты стоишь на путю.
Январь 1973
Получил сегодня твою повесть и письмо. Вот на письмо сразу и отвечаю, тем паче, что повесть ты мне прислал очень вовремя, я ею с толком займусь. О повести сейчас не буду. Я тут просто не удержался, глянул кое-что и, наверное, буду тебя сечь, но сечь надо по делу. Решил просто сразу написать тебе, тем даче, что «бенефис» у меня. В один день книжка вышла и кино пошло, дерьмо это несчастное. Книжку я тебе посылаю, ибо повесть «Тройной полярный сюжет» — это сценарий этого бадяжного фильма. Прочти и пойми, что я уж не так виноват, что фильм бадяжный. Виноват я в том, что сценарий излишне литературен, но тут уж ничего нельзя сделать, рассчитывался он на такого режиссера, который эту литературную информацию воспримет.
Ну ладно. Ты очень тонко усек, что «Там, за холмами», называю ПОСЛЕДНЮЮ книгу. Я ее и пишу, вернее, писал как последнюю.
Роман вырисовывается. И чем больше он вырисовывается (сегодня закончил третий вариант), тем больше открывается бездна неувязанных концов, недоведенных типов, невыясненных ситуаций, а уж про сквозную атмосферу и жестокость формы и говорить нечего. Я впервые понял, как можно над книгой работать десять лет. И это при всем при том, что он вполне годен для чтения и даже для публикации. Не знаю, вот у меня еще два месяца, два с половиной. Буду просветлять и либо зайду в тупик — «все недостатки вижу, но сделать ничего не могу», либо плюну и действительно буду еще года два над ним сидеть. История шибко жестокая для читателя, ибо если я добьюсь того, чего хочу, то читатель должен понять кое-что. Для истинного Дерьма это как с гуся вода, но колеблющемуся поможет, устремленного утвердит. Ну и будет ладно — не стыдно пропивать гонорар.
Хотя насчет пьянки я тоже стал строг, жаль расшвырянных лет, но опять таки, чувствую такое, что не было бы расшвырянных лет, не было бы целеустремленности. Это как в лагере — если мужик уцелел за десять-пятнадцать лет отсидки, то уж он остается человеком. Тот же Емельяныч. Я с ним переписываюсь регулярно. Название, Боря, я все-таки оставлю такое. Если не возникнет нечто звенящее, строгое и чуть печальное.
Твоя идея насчет двух приятелей, из которых один вверх, второй по плоскости с уклоном весьма мне близка и понятна. Примерно такова и есть тема «мово второго романа», на который пока копятся разные заметочки, но у меня уклон не на того, который вверх, а на второго. Условное его название «Отставший». Сугубо так, для себя. Отстал вон в гонке — квартиру не ухватил, дубленку не носит, пыжиковую шапку забыл купить, и выяснилось вдруг, что крепко отстал — не догонишь, вон только рази новые польты приятелей где-то мелькают впереди, тогда он вбок и в конечном счете оказывается на реке Омолон в охотничьей избушке. Лет ему уже под пятьдесят, мир убежал вперед, у приятелей уже по два инфаркта, и он, с одной стороны, — все понял, а с другой, — понял главную истину, что ничего понять до конца нельзя ни раньше, ни теперь, ни потом. Так примерно. Всякое бегство есть не более как попытка убежать от себя, и всякая гонка вперед не более как жалкая и никчемная попытка догнать выдуманного себя.
Ладно, не будем. Конференцию надо провести, вот что! Послезавтра я уезжаю в Терскол. До конца февраля. Надо сменить стены за ради работы над четвертым вариантом романа. Потом я на недельку приеду (квартирные хлопоты), и опять худа до апреля. Твою рукопись возьму с собой, чтобы все толком прочесть и вышлю тебе ее оттуда. Не беспокойся, не потеряется.
Февраль 1973
Здорово, Борька!
Получил сегодня письмо от тебя и вздохнул с облегчением: рукопись дошла. Что-то была у меня подспудная боязнь, что она затеряется в безднах почтового ведомства именно потому, что затеряться никак не должна.
Письму твоему я очень рад. К занятию этому и всему, что с ним связано, ты относишься как профессионал, хотя, слово это изнасиловано нашими титулованными графоманами от литературы. Профессионал нынче тот, кто себе дачу и поездку в Париж добывает литературой. И знаешь, у меня подспудное убеждение, что ни один стоящий писатель себя профессионалом не считал, хотя всегда имел перед собой образец того, кто, по его мнению, был профессионалом. Пожалуй, из недавно живших профессионалом был Хэм и считал себя таковым. Многие считают за профессионализм умение оболванить собственные хорошие вещи, как это делал Фицджеральд. Ну и как наиболее близкий пример профессионализма (не по яркости примера, а по доступности его, что ли) — моя повесть «К вам и сразу обратно». Была ведь неплохая повесть, и я ее Профессионально так оболванил, что самому читать стыдно. Ты и сам это почувствовал, вроде все складно, а душе противно.
Борька, ты зря на жестокое письмо бочку катишь. А как же быть? Это скотское лошадиное занятие на сю сю сю не вырастает. Сю сю сю для графоманов, а я все-таки слишком уважаю особенности твоей башки, хотя бы и путной страницы никогда не написал. И потом. Боря, проза обладает таким свойством, что по виду рукописи, по шрифту машинки или собственным строчкам ты видишь на бумаге то, что есть у тебя в голове, но ни в коей мере нет на бумаге.
Фиолетовая повесть — отлично! Вот это, Борька, уже высокий класс, это уже твоя индивидуальность, сподобь тебя господь справиться с этим, и ради одного фиолетового странного цвета не грешно ее переписать пару лишних раз. Это хорошо, Боря. По настоящему хорошо. Фиолетовый цвет очень странен, капризен, потусторонен, что ли.
Насчет фамилий друзей: как рабочие ориентиры — все правильно: Я и сам всегда так делаю.
Для кого писать? Боря, ведь нет на этот вопрос единого ответа. Каждый тут одинок и сам по себе, и каждый делает это по разному. Мало найдется идиотов, считающих, что они пишут для человечества. Насчет их ты прав. Я всегда пишу для какого-то одинокого и абстрактного парня, который сидит где-то на полярке или в разведке, или живет в Житомире в каком-нибудь «сучьем кутке». Главное — для одинокого парня. Реши эту проблему просто: для кого тебе не жалко положить душу на бумагу, вообрази этого реального или вымышленного человека и пиши для него и только для него. Но помни, Боря, твои же слова: автор всегда добр, отходчив; если он страдает и злится, то не за себя, не за свою неизлитую желчь, не за то, что у него (лично) потолок обвалился. Я убежден, что без человечески доброго автора нет литературы. И я убежден, что творческое бесплодие наших литературных генералов от того идет (среди них есть ведь и приличные технари), что себя они любят, свое положение, свой ранг и только. От этого и бесплодны.