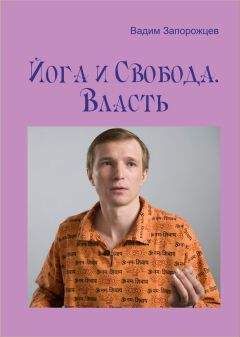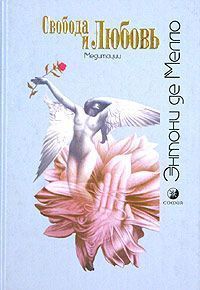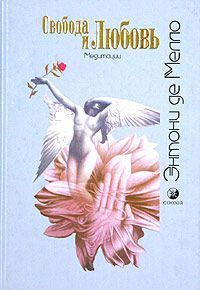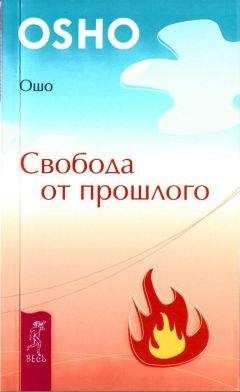Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
Верочка заходится в плаче: «Лучше подохнуть, лучше повеситься!». И этот взрыв отчаяния помогает мне обрести силы: «Перестань! Не будем унижаться перед ними. Пусть они не увидят ни одной нашей слезы». Прошли и через это… В моечной выдают по кусочку, меньше спичечного коробка, серого мыла. Наши надежды не оправдались: холодно, вода чуть теплая, и той не хватает — на человека не более двух шаек воды. Да и шайки-то — узенькие деревянные кадушки, осклизлые, тяжелые. Я была рада, что успела вымыться в предыдущей тюрьме и здешним «мытьем» могла пренебречь. Когда вышли в одевалку и здесь из жерла печки выдвинули листы с нашей одеждой, начался гвалт, крик, ругань. Наиболее нахальные бабы подскакивали к кучам одежды, выискивали что почище и покрепче и напяливали на себя. Те, что послабее, оставались с грязным чужим рваньем. Нам с Верой повезло: наше бельишко и обувь никому не пригодились, слишком мы были маленькими и худенькими. Но мое «каракулевое» пальто, с остатками шелковой оранжевой подкладки, привлекло внимание многих. Его примеряли, но оно сразу трещало в плечах и не застегивалось на талии. Во что же превратилось мое пальто! От прожарки оно порыжело, а завитки искусственного каракуля повисли клочьями. Кроме того, оно приобрело отвратительный запах жженой шерсти.
Уже под утро нас привели в главное здание и стали распределять по камерам. В нашей группе было 70 человек, и когда открыли железную дверь, то бабы с тюремным стажем ринулись занимать лучшие места, у передней стены под окном, кричали, захватывали места для своих приятельниц, тут же сколачивались какие-то группы, компании. Те же, кто здесь был впервые, застыли на пороге, обнаружив, что для них осталось маленькое пространство у самых дверей, рядом с огромной парашей (вонючая бочка с крышкой), стоявшей в углу. Камера узкая и длинная, а в ней ничего, кроме параши: ни нар, ни стола, ни раковины — голый цементный пол. Роль командира и здесь взяла на себя Любка. По ее команде улеглись в два ряда головами к стенке, положив под голову мешок с вещами, а пальто в качестве матраса и одеяла. Вслед за уголовницами улеглись и мы, новенькие, возле двери, из-под которой дуло, и почти вплотную к параше, которая подтекала. Среди нас обнаружились три старухи, древние, седые, совершенно беспомощные. Они-то здесь за что?.. Выяснилось, что ноги лежащих в одном ряду мешали женщинам противоположного ряда. И тогда Любка велела лечь всем на правый бок, подогнув колени. Так и спали, поворачиваясь по команде. В течение ночи я просыпалась несколько раз оттого, что кто-то перешагивал через меня, добираясь до параши и обратно. Устали так, что спали несмотря ни на что, да и свет, к счастью, здесь был не очень яркий, а на рассвете и совсем потух.
Утром проснулись от шума, лязганья дверей, топанья ног по коридору. Слышно было как куда-то целыми толпами водили заключенных и возвращали обратно. Раздавался гомон, смех, команды охраны, здесь не было той мертвящей тишины, которая поддерживалась в тюрьме КГБ. Любка скомандовала, чтобы мы построились по двое, двери отворились и нас повели на «оправку» (впервые я услыхала это слово). Через длинный гулкий коридор нас привели в сортир вокзального типа. Было здесь и несколько раковин — кое-как умывались, утираясь кто чем мог. Конвоир закрывал нас на 15–20 минут, и многие женщины спешили воспользоваться этим временем, чтобы прочитать все бесконечные надписи, испестрявшие стены, и оставить весточку о себе. Это была своеобразная почта заключенных. Начальство почему-то смотрело на это сквозь пальцы.
По возвращении в камеру дежурные, назначенные Любкой, вынесли парашу, ухватившись за деревянные ручки, и приволокли обратно. От дежурства не отказывались — за это получали лишнюю пайку хлеба. Любка же взяла на себя роль раздатчицы хлеба. Ее выпускали в коридор, она там балагурила с охранниками и вносила подносы с пайками. Раздача хлеба зависела от личных отношений Любки: кому благоволила, давала горбушку, которая считалась сытнее, а тем, кто ей не нравился, — раскрошенные куски, а то могла и довесок, приколотый к пайке щепкой, нагло бросить себе в рот. Протестовать, жаловаться никто не смел. На завтрак — кипяток и хлеб. На обед изо дня в день давали баланду из какой-то рыбешки и мелкой, размером в орех, семенной картошки. Картошка полусгнившая, сладкая, сваренная в шелухе. Уж насколько были голодные, и то не могли есть гущу. Картофельные шкурки и рыбьи кости складывали кучкой на полу, чтобы освободить миску для каши. Каша была постоянно только ячневая. И вот, пока мы ели кашу, одна старушка ползала на коленях между нами, собирала все эти очистки в свою миску и потом долго обсасывала их своими беззубыми деснами. Видеть это было тяжко и мы, не сговариваясь, стали ложкой вылавливать из своих мисок гущу и отдавать ей. Она благодарила нас как нищенка на паперти, отползала в свой угол, ела сама и подкармливала двух других старух. Некоторые женщины были местными и им приносили передачи, но тут сразу вмешивалась Любка — «раскурочивала» передачу, вытряхивала содержимое мешка и решала, что отдать хозяйке, а что поделить между своими. Причем было непредсказуемо, кому она сегодня сунет трофейный кусок. Но в общем постепенно получалось так, что не только ее приятельницы, но каждая из нас рано или поздно получала такую добавку. Когда однажды ее благосклонностъ дошла до меня и она сунула мне горбушку хлеба и пару долек чеснока, а я, сочувствуя заплаканной хозяйке передачи, пыталась отказаться, то Любка прикрикнула на меня: «Ты что, брезгуешь? Скажите, фря какая!». И я сразу смирилась, приняла подношение и поделилась с Верочкой.
Когда рассаживались все вокруг стен, то в центре камеры оказывалось пустое пространство. Днем его использовали как прогулочную площадку (очень затекали ноги от постоянного сиденья на полу), а вечерами иногда и как танцевальную, выходили навстречу друг другу две бабенки и с удовольствием «дробили», выкрикивая частушки. Потом их сменяла новая пара. Изображали и светские танцы: краковяк, танго, кривлялись, входя в роли дам и кавалеров. Все остальные напевали мелодию, а одна очень ловко наигрывала на гребенке с помощью папиросной бумаги.
Иногда вечера были грустно-лирические. Рассказывали какие-нибудь трогательные истории, а чаще пели. Охране, по-видимому, это даже нравилось. Они покрикивали на нас только в случае появления начальства, а так открывали заслонки в дверях и слушали. Случалось, в недрах гулкого коридора звучало 2–3 хора. Один был мужской и это очень вдохновляло нас. Стихийно наш хор становился многоголосым, одухотворенным и трогал до слез. Очень мне нравился репертуар, и я с удовольствием пела вместе со всеми: «За окном черемуха…» с плакучими подголосками, трогательную песню «Сестра любимая, родная милая… пойду в народный суд, ведь я преступница…». Были в этом репертуаре и песни подбадривающие: