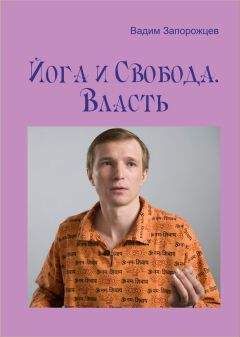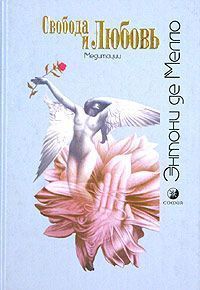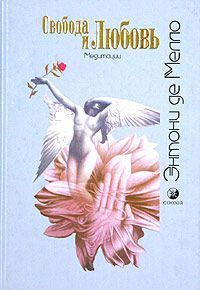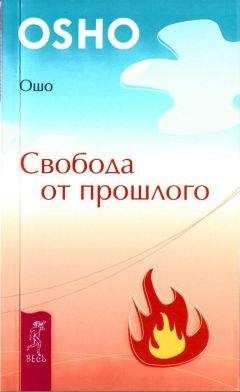Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
Постепенно увеличивалась слабость, все реже заставляли себя «гулять» по камере, все чаще днем спали. Прекратились наши танцы, и даже пели мы все реже. У меня стали шататься зубы и начался фурункулез. Многих мучил кашель. Вдруг объявили: «Желающие могут выйти на прогулку». Но когда нас привели на первый этаж, то мы увидели, что тюремный двор покрыт талым снегом, лужами, и никто не рискнул выйти, так как намокла бы обувь. Так потоптались в дверях, хлебнули свежего воздуха и вернулись в свою зловонную камеру.
А 2 мая 1945 года к нам вышел начальник тюрьмы с дежурным конвоем, велел построиться и начал вызывать по списку на этап. И я была счастлива, что мы с Шуркой оказались вместе.
Нам крупно повезло: отправляли этапы и на север, и в Среднюю Азию, а мы попали в лагпункт № 3, который находился на окраине Новосибирска, в районе строящегося завода им. Чкалова.
Огромная территория огорожена рядами колючей проволоки, высоченным забором с прожекторами и вышками, на которых круглосуточно маячат «вертухаи»-часовые.
Сложная система вахт и проезда машин в «зону». А внутри бесконечные ряды вросших в землю бараков, беленых известью, огромный плац, где выстраивают всех заключенных в случаях, когда начальство должно что-то объявить, и снова ряды колючей проволоки. Ближе, чем на 5 метров, нельзя приблизиться к забору — часовой вправе стрелять по «нарушителю». В дневное время лагерь будто вымирает, а вечерами, когда в ворота вводят все новые и новые отряды заключенных, которые работали вне зоны (а их тут около четырех тысяч), весь лагерь кишит как муравейник: бритые головы, серые телогрейки, тяжеленные «бахилы» на ногах. Все кажутся безликими и без возраста, просто стадо измученных двуногих… И мы вливаемся в это стадо. Получаем казенную одежду. Женщинам выдают брезентовые юбки и застиранные до потери цвета мужские рубахи — в качестве блузок. Ватник — огромный, ботинки «на деревянном ходу» сваливаются с ног, сколько ни набивай в них тряпок. Хорошо, что у меня суконные бурочки с галошами и я могу ходить в них по грязи, но ведь уже май, скоро потеплеет. Шурка утешает меня: «Приладим к галошам завязки и будешь ходить в них вроде как в тапочках».
На всей территории ни одного деревца, ни одного кустика. Да и земля вся вытоптана до полного омертвения, даже трава здесь не может жить. А люди — могут…
Женщин в лагере меньше, чем мужчин, и для них отгорожена своя зона. После отбоя нас выстраивают, долго пересчитывают и по одной запускают в «бабью зону». Здесь несколько бараков, стоящих почти вплотную друг к другу. В каждой половине барака свое крыльцо, своя кладовка для вещей и огромная полутемная «спальня», сплошь заставленная двухэтажными нарами — «вагонками»: двое нар нижних и двое верхних соединены между собой невысокими перегородками в единый блок. Между этими «блоками» с трудом могут разойтись двое, так тесно они стоят. Свободное пространство оставлено лишь при входе, возле окна. Здесь разместились стол, скамейки. А в «переднем углу», возле беленой печки нечто неожиданное: цветастый ситцевый полог отделяет маленький закуток, в котором красуется широкая кровать с горкой купеческих подушек, небольшой комодик, заставленный какой-то пестрой ерундой и, главное, — обтрепанное кресло, в котором восседает маленькая, но очень толстая баба в ярком халате, с насурмленными[44] бровями и пышными волосами, заколотыми по-старинному, — узлом на темени. Это Сонька-Бандерша, бывшая содержательница публичного дома в Одессе. Здесь она еще с довоенных времен. Говорят, была замешана в каком-то крупном деле с перепродажей золота. Она почти не может ходить, поэтому ее освободили от общих работ и назначили комендантшей этой половины барака. Бандерша привыкла к своей роли полновластной хозяйки и, видимо, ей кажется, будто она продолжает деятельность в своем одесском «заведении». По настроению, она называет обитательниц барака то своими «девочками» и расточает всем слащавые улыбки, то вдруг звереет и кроет изощренным матом, может ущипнуть, дать затрещину (если «провинившаяся» рядом) или швырнуть в «негодяйку» миской, половой тряпкой. Перепады ее настроения зависят от того, насколько угождают ей, как обслуживают, какие подарочки и подношения делают. Вокруг нее всегда крутятся временно приближенные. Она назначает «дежурных» по бараку, и их освобождают от общих работ. Они приносят еду из столовой, обмывают и обстирывают ее, водят в сортир (он во дворе), развлекают сплетнями и разговорами. Но стоит какой-нибудь проштрафиться, как мгновенно из любимицы превращается в отверженную, и зачастую жизнь ее становится невыносимой — Сонька злопамятна и мстительна. Ее боятся и задабривают подарками.
У Шурки было курево, которым она щедро поделилась с Сонькой, да к тому же наплела ей что-то трогательное про меня, и мы сразу попали в число «приближенных». Соньке понравилось, что я из «культурных», а Шурку она зауважала как воровку «в законе», которая в обиду себя не даст. Нам было милостиво разрешено занять «вагонку», стоящую на светлом месте, в первом ряду, неподалеку от ее кровати. Ватные тюфяки и солдатские одеяла были не слишком заношенными, и при наличии простыней (у Шурки — казенных, из серой полосатой матрасной ткани, а у меня — собственных) мы почувствовали себя обладательницами великолепных постелей и почти счастливыми. Намывшись в бане (здесь была хорошая, с горячей водой и прачечной), получив по миске пшенной каши (тогда еще не знали, что пшенкой будут кормить ежедневно), мы с наслаждением улеглись и проспали почти 12 часов подряд.
Ранним утром следующего дня начались будни, к которым надо было привыкать и подлаживаться к их ритму. Звуки сирены, извещавшие о подъеме, будто сдергивали с нар всех. Около сотни женщин спешили одновременно привести себя в порядок, заправить постели, занять во дворе очередь к умывальникам и в сортир. Толчея, крики, выяснение отношений… И над всем этим подстегивающие голоса комендантш всех бараков: «Скорей! Быстрей! Чего копаешься?». На утренние дела полагалось полчаса, но охранники могли придти и раньше, тогда приходилось бросать все и спешить на проверку. Пересчитав всех, строем вели в общую зону, к огромному бараку, где размещалась столовая. Здесь перестраивались по рабочим бригадам и в ожидании, когда бригадиры с помощниками отстоят очередь в хлеборезку, раздадут пайки, а затем запустят в столовую, работяги могли немного расслабиться. Хотя из строя выходить было нельзя, но все же сбивались в группы вокруг женщин, начиналась болтовня, треп, раздавался смех. Но вот появлялись охранники, орали на бригадиров за то, что те еще не успели накормить свою команду. Бригадиры орали на нас: «Скорей! Быстрей!..». По счету запускали группками в душную, парную, наполненную лязгом металлической посуды столовую, где, почти на ходу, съедали свою миску пшенной каши, запивая ее кружкой кипятка, и бегом спешили на построение. Снова долго пересчитывали перед вахтой — на работу за зону одновременно выводили более двух тысяч заключенных. Наконец, выходят наряды охранников с автоматами и собаками, выстраиваются с двух сторон нашей колонны. Раздается команда: «Руки за спину!» и вся масса людей вытекает за ворота лагеря, длинной змеей движется по проселочной дороге, через пустырь к виднеющимся вдали металлическим остовам будущего завода.