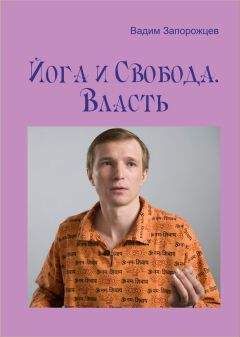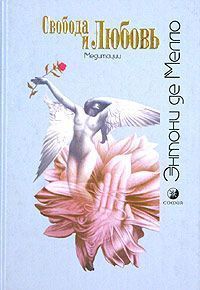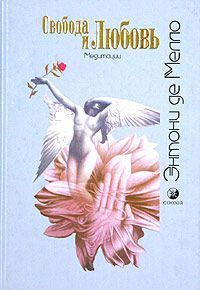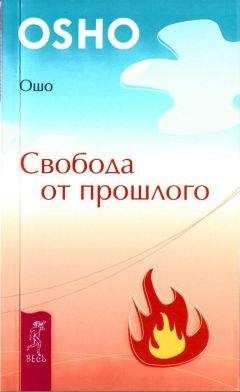Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
Но продержали меня здесь всего 17 дней. Вызвали вдруг в дневное время и сообщили, что завтра, 2-го марта 1945 года, состоится суд.
Судить будут военным трибуналом, так как преступление совершено против военного ведомства, и дадут, вероятно, 5–7 лет. Я совершенно равнодушно восприняла названные сроки. Самое главное, что, наконец, можно будет вырваться из этого каменного мешка! А в лагерях будет всяко лучше, чем здесь. И еще была надежда, что, может быть, удастся разыскать Арнольда. Женщины говорили, что в лагерях заключенных часто перегоняют с этапа на этап, и там можно встретиться.
Всю ночь не спала. Когда утром выводили через вахту, то слышала, как конвоиры переругивались между собой («черный воронок» ушел, а другой машины не было). Решили, что отправят меня пешим ходом: «Здесь недалеко». Молоденькому солдату пригрозили: «Смотри, чтобы ни на шаг не отходила! И веди по переулкам, а не по проспекту».
Когда вышли из ворот тюремного двора на Коммунистическую, захлебнулась от воздуха и света. Первый весенний день, уже снег рыхлый и подтаивает! (А вошла я в эти ворота 15 ноября, в день, о котором Арнольд после смерти отца сказал, что это его черный день).
Солдатик явно стеснялся идти рядом со мной и выдерживал небольшую дистанцию, будто шел сам по себе. Но когда мы вышли на Красный проспект и я на минутку остановилась, жадно разглядывая лица людей, машины, афиши кинотеатра напротив, он подскочил ко мне и тревожно буркнул: «Ты чего? Давай прямо на ту сторону». Я же заметила возле входа в гостиницу газетную витрину и рванулась к ней. Он так растерялся, что не успел схватить меня за руку, а я уже стояла среди читающих и спешила запомнить все: заголовки, сводки с фронта, фотографии.
— Ну разреши, я только сводку прочитаю! — умоляюще обернулась к нему. Он потоптался на месте и смирился с нарушением.
Далее без всяких приключений дошли до Советской, где возле почтамта находилось солидное здание, на которое я раньше не обращала внимания. Оказалось, это здание Военного трибунала (сейчас в нем размещается консерватория). Сначала на 1-м этаже завели в обычную душную камеру (сейчас там ректорат), стены которой были густо исписаны весточками для близких: «получил 10», «прощай Мишка, я не раскололся» и т. п. Я внимательно перечитала все: а вдруг весточку и для себя найду… Пожалела, что не смогу оставить какого-нибудь известия о себе: не было ни карандаша, ни булавки, ни осколка стекла.
Судебный зал был огромный и гулкий, я чувствовала себя маленькой и беззащитной, когда на возвышении показались три военных безликих фигуры. Не вслушивалась в бормотание казенных фраз, а лихорадочно готовилась к своему слову: я знала, что мне его дадут. Эту речь я продумывала несколько ночей и верила в то, что сумею в чем-то убедить этих безликих. Но неожиданно все обернулось комедией: после первых моих фраз они откровенно смеялись надо мной. Я доказывала, что не имею вины перед высокой военной организацией. Я же выполнила задание — они хотели узнать содержание работы Арнольда, и я это обеспечила. А то, что я расконспирировалась, было вынужденной мерой. Если бы я следовала их методу, унося из рукописи отдельные листы, они бы получили самое сумбурное впечатление от работы и не смогли бы понять ее содержание. Самое же главное в том, что вся эта история доказывает полную невиновность Арнольда. Если бы он чувствовал за собой вину, то уничтожил бы свою работу или сбежал. Вторая половина моего выступления развивала мысль, что марксизм — не догма, а руководство к действию, как говорил Иосиф Виссарионович, и нужно радоваться тому, что есть такие люди, которые занимаются разработкой теории социализма.
Развеселила я всех чрезвычайно и, вероятно, именно поэтому мне дали срок всего 3 года. Этот срок удивил даже полковника Дребинского. «Ну и ну, — покачал он головой, — здорово тебе повезло».
А я, пользуясь его хорошим настроением, попросила разрешения написать письмо домой. И он разрешил! Я сидела в приемной за маленьким столиком и два часа, обливаясь слезами, описывала маме злоключения этого года, старательно обходя те моменты, о которых, я знала, писать нельзя. Уверяла, что мне очень повезло, так как мне дали такой маленький срок, что в лагерях, как говорят, не такие уж плохие условия, а, главное, можно будет переписываться.
Это письмо мама так и не получила. Только через полгода, уже в лагерь, пришла от нее первая весточка. Она потеряла меня, так как институт уже в январе вернулся в Ленинград, и никто о нас с Арнольдом ничего не знал.
На следующий день меня отправили в пересыльную тюрьму. На этот раз был подан персональный экипаж — «черный ворон». Раньше я видела эти машины, но не задумывалась о них и о тех, кого они везут. Теперь же во дворе мне приказали забраться в нее. Через задний борт, перешагнув отсек для конвоиров и нагнув голову, я вошла в металлический ящик, пропахший мочой и потом. Меня охватил ужас. Железная дверь еще не закрылась за мной (конвоир подписывал какие-то документы), но, когда она захлопнется, оказаться в чреве этой металлической душегубки с узкими щелями под потолком, в которые не заходит воздух, — это все равно как быть заживо погребенной. И сейчас я здесь одна, а ведь бывает, что набивают заключенными до отказа. Какая духота в этих раскаленных ящиках летом и как промерзают они в морозные дни! Но мне повезло: дверь не только не захлопнули, но пожилой конвоир разрешил мне сесть против него. Я обрадовалась: увижу город, надышусь. Но, к сожалению, поехали не через центр, а свернули сразу вниз к Оби. Ехали по длинной заводской улице, рядом с машиной проплывали дребезжащие трамваи. Я с любопытством вглядывалась в пассажиров, а некоторые с не меньшим интересом разглядывали меня. Уже смеркалось, в окнах деревянных домов зажигались такие домашние уютные огни. По улице шли толпы рабочего люда, пробегали стайки ребятишек. Не доезжая реки Ини, машина свернула влево и стала медленно и натужно взбираться в гору. В пустынном поле темнело огромное здание тюрьмы, точнее, здесь был целый тюремный городок. Скучная улица двухэтажных стандартных домов, где жила тюремная обслуга, а с другой стороны — бесконечный забор, опутанный рядами колючей проволоки, вышками часовых, прожекторами по углам и железными воротами. Главное тюремное здание подавляло своей массивностью, вековечностью. Оно действительно было построено еще до революции, и когда через много лет мне пришлось смотреть фильм «Воскресение» по Толстому, то в эпизоде с Катюшей Масловой я вдруг узнала эту тюрьму. Подавляла она своими размерами не только снаружи, но и изнутри: огромный гулкий вестибюль, как на вокзале («накопитель», так назывался он здесь), бесконечные, с высокими сводчатыми потолками коридоры, расходящиеся от центра в разные стороны. И все это пространство перегорожено целой системой металлических решеток с врезанными в них воротами. Причем решетки не символические, а из прутьев толщиной чуть ли не с мою руку — такие я видела в зоопарке в клетке медведя. Такой же, как и в кагебэшной тюрьме, смрад хлорки, грязи, промозглой сырости. Но в отличие от нее здесь нет мертвящей тишины. Громко перекликаются охранники, лязгают замки и двери, а из «накопителя», где расположились на полу два десятка женщин, слышны перебранка и плач. Меня запускают туда же. Я осторожно приближаюсь к этой компании, усаживаюсь на корточки возле стены — пол каменный, заплеванный, промерзлый. Я боюсь этих женщин, но к счастью они не обращают на меня внимания, так как заняты выяснением отношений: кто-то у кого-то что-то украл или хотел украсть. Лампы под высоким потолком тусклые, а потом и вовсе начинают мигать и гаснут. Охранники матерятся, дают команду принести фонари. За это время привозят еще две машины женщин и сразу же начинается шум и гвалт, как на вокзале по прибытии поезда, поиски знакомых, объятия, расспросы. По-видимому, здесь в основном публика со стажем и многие в этих стенах не впервые. Но есть и одинокие, робко жмущиеся к стенам, и я потихоньку перебираюсь к этим молчаливым. Держат здесь не один час, вероятно, уже поздно, хочется есть и спать. Некоторые уже устроились на полу и дремлют. Но вот раздается команда, и нас поодиночке, просчитывая по головам, выпускают в длинный коридор, в конце которого светится фонарь и за столом сидит офицер, обложенный папками с делами на всех прибывших. Приказано всем выстроиться в очередь, раздеться до рубахи, так как одновременно будет и обыск. Бабы галдят, отпускают скабрезности. Вся эта очередь полубезумных женщин, подсвеченных редкими фонарями, длинные тени, колышущиеся на стенах и сводчатом потолке, кажутся кошмаром из кругов Данте или «Капричос» Гойи.