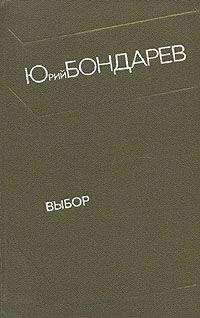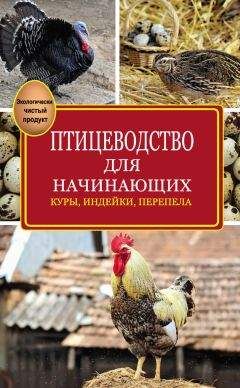Ю Бондарев - Выбор
"Мне ясно, что он хочет понравиться Илье, но его вдохновляет спор с Лопатиным и внимание Виктории, - подумал Васильев. - Иначе откуда этот ливень сарказма и иронии? В нем есть какая-то наркотическая сила зыбкости. Как он нехорошо действует на Викторию, и как это нехорошо видеть!.."
- Кого жалеть, Александр Георгиевич? Скажите, пожалуйста? - спросила вдруг Виктория с брезгливым вызовом. - Лжеца? Грабителя? Дурака? Они еще больше станут лжецами, грабителями и дураками.
- Совет, Вика! Что касается дураков, - попытался поиграть ее словами Лопатин, обеспокоенный гневной вспышкой Виктории, - то надо вырабатывать в себе дуракоустойчивость. Или, пожалуй, считаться с ними, Вика, ввиду их численного превосходства. Надо, пожалуй, верить...
- Верить? Чудесно! Вы сказали "верить". А что такое вера - страх или убеждение? - перебил его сейчас же Щеглов, и бесовский костер взвился искрами в глазах его. - Вера? Пережитая истина или эмоциональное отношение к истине? В какую веру вы обращаете Вику?
- Перестаньте, дядя, - строго сказала Виктория, и по ее горлу прошла еле заметная судорога. - Так стало модно очень. Все сразу переводить в шутку. И вы стали так, Александр Георгиевич, хотя вам не идет. Для чего говорить слова, одни слова на все случаи жизни? Кому нужны ваши длинные монологи? - поморщилась она гадливо. - Кого это делает счастливым? Как страшно, что все говорят, призывают, клянутся, учат друг друга, а на самом деле - совсем другое. Просто страшно!..
- Вряд ли, Вика, вряд ли вы справедливы полностью, - забормотал Лопатин неловко, копаясь пальцами в бороде, пощипывая ее. - Вы напрасно нас так...
- Викочка, пощади, золотце, юная герцогиня наша! - прискорбно заговорил Эдуард Аркадьевич и воздел руки, словно в молитве призывая на помощь само небо. - Я хотел бы научить тебя быть счастливой, красавица моя! Но - как? Счастье - это лишь то, что мы представляем о нем. Мираж, мечта жить в сладости весенних снов. Кого можно научить счастью? Я могу научить лишь злой веселости, но это не для тебя. Поверь, как будущая актриса, - только искусство стоит чего-то в жизни. Но и оно не может научить счастью, оно лишь развлекает приятной сказочкой: будь честным, смелым, добродетельным...
- Боже, какой мед, какая сладость! - воскликнула Виктория с ненатуральной радостью. - К черту ваше искусство, дядя! Могу ли я быть актрисой, если мне ни перед кем не хочется лицедействовать! Илья Петрович, скажите, пожалуйста... вы как-то молчите, а я хочу, чтобы вы ответили мне! Что думаете вы? - проговорила она иным тоном, обращаясь к Илье, а он с каплями пота на лбу курил, смотрел на нее немигающим тяжелым взором, смотрел в отстраненном молчании, потом проговорил хрипло, с кривой улыбкой:
- Я не типичен, Виктория, в вашем споре.
- А что вы думаете? Что - вы?
- Что я?.. Как только человек заглянул в свою душу, он познал ад. По крайней мере, у меня это началось после войны, в шестидесятом году.
- У вас давно. А у меня... - начала, усмехнувшись, и не договорила Виктория, и пасмурная тень прошла под ее вздрогнувшими, длинными Марииными - ресницами.
"Что объединяет их, что общего между ними, что сближает их - Илью и мою дочь?" - подумал Васильев и почти с отчаянием почувствовал, что Виктория в неисчезающей брезгливой ожесточенности не хочет никого слушать, кроме Ильи, и оттого, что она спорила с любимым ею Эдуардом Аркадьевичем и в особенности с Лопатиным, которого обычно слушала ласково, и оттого, что сама искала себе выход, он вновь испытал острую отцовскую муку, похожую на страх навсегда потерять ее.
- Знаешь, что я вспомнил, Вика? - сказал Васильев, стараясь говорить спокойно. - Я вспомнил, как однажды прошлым летом пошел на мотив часов в восемь утра. Спустился к Москве-реке, устроился на ступенях, а впереди мост, зелень на том берегу и набережная в тени и бликах. И главное прекрасное утро, солнечный, прохладный воздух, радость пробуждения. Но вдруг вместо сиреневого и серебристого цвета на холст лезет синий - чертовщина, я ничего не понимаю, но уже нет прозрачных утренних теней, зыбкости воды. И чувствую, что пишу ночь вместо утра. Солнечный колорит, а у меня - ночь. Васильев помолчал, внезапно ужасаясь тому, что начал рассказывать, и боясь, что увидит на лице Виктории недовольную гримасу. - Сзади какие-то туристы американцы на набережной, наблюдают сверху, а я спиной загораживаю мольберт и думаю: что за наваждение? Что за подмена? Вокруг свет, солнце, сверканье воды, а на холсте ночь... До сих пор не могу объяснить странной метаморфозы. Ты видел эту картину, Саша, помнишь?
- М-да, лунная ночь, - пробормотал Лопатин.
- Зачем ты рассказал это, папа? - спросила Виктория, и морщинка раздражения прорезала ее переносицу. - Неужели так похоже, что чудесное летнее солнце я выдаю за унылую луну? Нет, па... - Она пересела ближе к нему, на краешек свободного стула, прикоснулась пальцем к его руке. - Нет, па, ты всегда будешь смотреть на меня, как на ребенка. Не обманывай себя. Я уже взрослая. Па, я ведь знаю, что и тебя и меня выбили из колеи, - добавила она шепотом с покаянным дрожанием губ в полуулыбке. - Прости меня и маму. Хотя мы обе не виноваты. Но ты прости...
Она опустила голову, и ему стало тягостно и жалко ее в этой неожиданной всепонимающей покорности.
- Послушай, дочь, - он взял Викторию за подбородок, приподнял голову, заглянул в глаза, недавно отчужденные, хмурые, и увидел струистую грустную их глубину, такое знакомое выражение, какое бывало во взгляде молодой Марии, напоминающем теплую тень на траве. - Я хотел сказать, что в твоей жизни только началось утро. Что бы ни было, еще утро. Все пройдет, дочь.
- Нет, папа, я не гожусь для святых женщин-мучениц, таких, как мама!
- Как похожа на Марию, умопомрачительно похожа, особенно, когда смотрит сбоку, - раздался голос Ильи, резковатый, излишне уверенный, и этим вмешательством, почти неприятным Васильеву, обрезал нить разговора между ними, прервал пронзающую фразу Виктории.
"Она сказала "таких святых, как мама"? Да может ли это быть? Что ж, Мария призналась Виктории, что еще со школы терпела мою дурацкую влюбленность много лет, а сама вынужденно несла крест? Значит, только один для нее был - Илья? Это, наверно, так!"
- Как она похожа на Марию, - повторил Илья громко.
Он стоял по другую сторону заставленного бутылками стола и держал в правой руке бокал с шампанским, в левой - зажженную сигарету. Его лицо с крупными каплями пота на висках выделялось мертвенной бледностью, какой-то задумчивой, наркотической пристальностью расширенных зрачков, устремленных на Викторию. Был он уже явно нетрезв, но пил шампанское и подливал его себе и гостям неумеренно, так же неумеренно курил одну сигарету за другой, и эта его алчность после подчеркнутого строжайшего режима в еде, в курении, после полного воздержания от вина и даже слабых коктейлей при встречах в Венеции и здесь, в Москве, пугала Васильева разрушительной беспощадностью, словно он убивал установленное стоическое и рациональное в себе, что еще берег и расходовал по частицам вчера. Может быть, Илья предполагал иное свидание с матерью, и не растопленный его приездом холодок в душе Раисы Михайловны, ее не растворенная временем обида пошатнули в нем некую надежду, и теперь, мнилось, он мстил своему наивному и несбывшемуся желанию.