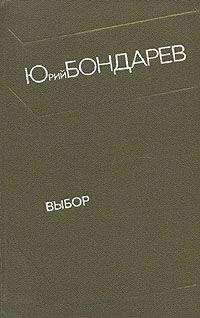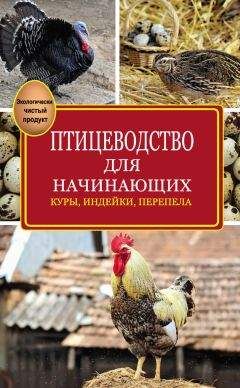Ю Бондарев - Выбор
- Не кошка, а кот, - поправил Лопатин, мрачнея. - В этом есть разница, Вика.
- Все равно! Еще раз до свидания!
Илья с отяжеленным дыханием поцеловал ей руку, ноздри его сжались и разжались, как если бы он втянул запах оздоровляющего лекарства в тепле ее кожи, выговорил застревающим в горле шепотом:
- Прощайте, Виктория. Я все сделаю, что обещал.
- Почему "прощайте", Илья Петрович? Почему вы так грустно сказали?
Он промолчал, глядя ей в лицо. Она повторила:
- Почему "прощайте"?
- В моем возрасте никому не ведомо, проснешься ли утром здоровым, насильственно-бодро и вежливо объяснил Илья и, уронив голову в поклоне, промокая влажный лоб платком, напряженно-ровными шагами проводил Викторию в переднюю.
Когда же он вернулся в комнату и с видом вольности в мужском обществе расстегнул на все пуговицы пиджак, отпустил узел галстука, когда потер скомканным платком дрожащие пальцы, вроде согревая их под этим платком, показалось, что весь он ледяной, мокрый под костюмом, и пот, покрывавший его лоб, его виски, был щекотливо-холоден, а шампанское, которое он плеснул в бокал и отхлебнул, войдя в комнату, не в состоянии было растопить в нем что-то замороженное, заковавшее его.
- У тебя обаятельная дочь, Владимир, - проговорил Илья надтреснутым голосом. - Да, обаятельна и умна. Но по молодости не знает, что мир идет от плохого к худшему. Сейчас человеку плохо везде. Везде и всем. Ни у кого нет богов. И нет веры в себя. И в других... Все мы путешествуем в пустоте, не зная, куда и зачем. - Он замолчал и, усиливаясь твердо держаться на ногах, обошел стол, с замедленной тщательностью долил бокалы, так подчеркивая неуемное желание продолжать пить со всеми, и стал чокаться поочередно. - В последние годы я убиваю время чтением. Помню фразу одного русского писателя: "Будем пить на сломную голову!" Что касается до моего режима, Владимир, прибавил он и недобро засмеялся, чокаясь с Васильевым особенно протяжно и значительно, - то придется расплачиваться по крупному счету. И наличными. Alles*.
______________
* Всё (нем.).
- Тогда остановись, Илья, ты это можешь, - сказал Васильев.
- Зачем? Не вижу смысла. Сегодня надо пить. Завтра - адью, аллес.
Да, этот переутомленный жизнью, серьезно больной человек не имел ничего общего с самим собой в навеки ушедшем прошлом, и все-таки связь эта была. Она была и в том, как он сказал о внешнем сходстве Виктории и Марии, и в том, как печально поцеловал руку его дочери, и в том, как, прощаясь, долго и вспоминающе глядел ей в лицо, наверное, находя повторенные чудом Мариины черты, той Маши из неповторимой и прекрасной юности, когда он, Илья, был другим. Было похоже, что в Виктории, ее глазах, гибком голосе, ее улыбке он видел прежнюю молодую Марию и, быть может, в попытке вернуть лучшие свои годы, что-то оправдать, искупить, помочь, с чем-то проститься, готов был на неоправданное в его положении безумие, переворачивающее все в их взаимоотношениях.
- Я должен тебе сказать, Илья... - раздельно произнес Васильев и, сразу заискрившись гневом, договорил с трудом уравновешенно: - Очень жаль, что получилось так. Очень жаль, но я попросил бы тебя оставить в покое Викторию... Думаю, что ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Мне не хотелось бы пакостить нашу "зарю туманной юности"... и все то, что было... Да, именно так. Поэтому разреши откланяться и пожелать тебе счастливого пути, Илья!
Васильев встал, сверх меры спокойный, отчужденный этим смертным спокойствием, которое внутренне подавляло его, и прибавил необлегченно:
- Пожалуй, встречаться нам с тобой не имело никакого смысла. Мы кое-что испортили напрасно. А впрочем, так должно было быть...
- Подожди! - не разжимая зубов, крикнул шепотом Илья, и его лицо приобрело заостренное, жесткое выражение. - Подожди! - повторил он хриплым горловым выдохом. - Может быть, мы с тобой уже никогда не увидимся. Не торопись...
- О, владельцы истины! - вмешался Эдуард Аркадьевич и воздел подвижные руки в умиротворяющем недоумении. - О, два рыцаря истины! Научите, как жить! Как? И каким образом? Заграница - бяка, а мы - нака? Но, друзья, вспомните о голубке мира бесподобного Пикассо!.. Где ей, драгоценной, вить гнездо? Есть ли для нее география? Виктория - та же чистая голубка...
- Опять прет пустозвонство! - оборвал, яростно засопев, Лопатин и с видом человека, потерявшего терпение, выставил огромный палец в сторону Эдуарда Аркадьевича, загремел оглушительно, не давая ему говорить. - В данных обстоятельствах ваше участие и ваша ирония так же необходимы, как заднице галоши в апрельский день!
- То есть как? Что за грубые выражения вы допускаете, многочтимый Александр Георгиевич? - тонко воскликнул Щеглов, объятый искренним возмущением. - Викторию я родственно люблю! Как вы можете?..
- Тем более - галоши не нужны!
- Вы позволяете себе неприличности барсука! - закричал Эдуард Аркадьевич и выказал короткий злой оскал, вмиг уничтоживший его светскую, игривую легкость, всю его расположенность к безнаказанным удовольствиям спора, но сейчас же он испуганно опомнился, точно злобным оскалом нечаянно позволил увидеть собственную физическую неполноценность, и молниеносно привел лицо в порядок - с прискорбной иронией прыснул постанывающим визгливым смешком, поглядывая направо и налево, затем изящным и плавным жестом балетной кисти, омоложенной стерильной белизной манжеты и крупной запонкой, подхватил бокал со стола, произнес прешутливым тоном:
- Самый лаконичный тост, милые друзья: "Keinerlei Probleme"*. Не в этом ли зарыта изюминка счастья?
______________
* Никаких проблем (нем.).
Никто не отозвался ему; Лопатин хмыкнул в бороду с хмурым неодобрением, а Васильев смотрел на Эдуарда Аркадьевича, приятно размягченного, дружелюбного, приглашающего к миру, но еще видел недавнюю волчью улыбку, изменившую минуту назад его облик, и думал: "Где же его правда?" А Илья на прямых ногах стоял посреди комнаты, не выпуская бокала из подрагивающей руки, затягиваясь сигаретой, и взгляд его упирался в узоры ковра на полу, губы неповоротливо проговаривали отрывистые, угловатые фразы:
- Пойми, Владимир, я не неволю Викторию. Не принуждаю. Я не предаю тебя, Владимир. Она сама... Ошибочно было бы думать... мне уже ничего... не надо...
В голосе Ильи была плоская, лишенная звуковой плоти стылость, по-прежнему безжизненно припаян был его взгляд к переплетенным узорам гостиничного ковра, и стекали извилистые струйки пота по его наклоненному лицу с пепельными обводами в запавших подглазьях. И хотя все слова различимо выговаривались им, но походило на то, что Илья молчал, не произносил ни звука, отчего стало жутко: он молчал даже тогда, когда отчетливо говорил, он был как будто наедине с самим собою.