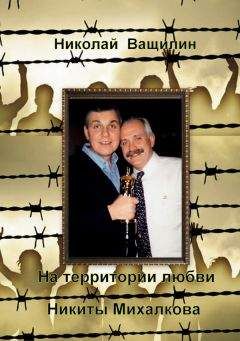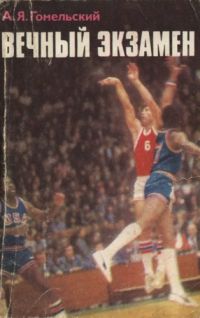Анри Труайя - Марина Цветаева
Словно встав на колени в церкви, чтобы испросить Божью милость, Марина вымаливает:
«Товарищ Берия,
Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева, и моей дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных: дочь – 27-го августа, муж – 10-го октября сего 1939 года.
Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.
Я – писательница, Марина Ивановна Цветаева. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей – в Чехии и Франции – по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно – жила семьей и своими писаниями. <…>
В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я вместе с 14-летним сыном Георгием 18-го июня 1939 г., на пароходе „Мария Ульянова“, везшем испанцев.
Причины моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи: мужа – Сергея Эфрона, дочери – Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто. <…>.
Вот – обо мне.
Теперь о моем муже – Сергее Эфроне.
Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново <…> и народовольца Якова Константиновича Эфрона. <…> Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит <…>. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. <…>.
В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.
В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. – 1920 г.) – непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.
Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, – забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара – у него на глазах – лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. – „В эту минуту я понял, что наше дело – ненародное дело“.
– Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? – Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился – он из него ушел, весь целиком – и никогда уже не оглянулся в ту сторону. <…> Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала „Версты“, от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь – уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут „большевиком“. <…>
Когда в точности Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой, не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю – около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю – это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха – как сиял! („Теперь у нас есть то-то… Скоро у нас будет то-то и то-то…“). Есть у меня и важный свидетель – сын, росший под такие возгласы и с пяти лет ничего другого не слыхавший. <…>
Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, – целое перерождение человека.
О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: „Однако, господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!“ Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю – это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог».[278]
Так же, как письмо Сталину, письмо Берии, датированное 23 декабря 1939 года, осталось без ответа. Скорее всего, Берия отложил его, не читая. Сколько же ему приходило подобного в то время! Друзья Марины, со своей стороны, старались, насколько было возможно, улучшить ее положение раскаявшейся перебежчицы. Благодаря рекомендации Бориса Пастернака Цветаева получила работу в государственном издательстве – Гослитиздате, ей заказывали много переводов с языков, которых она не знала: стихи, написанные по-грузински, по-белорусски, на сербохорватском, болгарском, польском, грудами лежали на ее рабочем столе. Она брала сделанный «поденщиками» подстрочник, слово в слово повторявший оригинал, и старалась вдохнуть в него душу, добиваясь звучания в русском тексте музыки и ритма подлинника. Она говорила, что переводит вещи «по слуху и духу», а это больше, чем смысл, что, идя по следу поэта, заново прокладывает ту дорогу, которую прокладывал в свое время он. Эта хитрая работа нравилась Марине, занимала ее и давала достаточно денег для того, чтобы можно было оплатить жилье и прокормиться.
В то же самое время она завязала новые дружбы, проникнувшись осторожной симпатией к некоторым из обитателей писательского дома творчества и завоевав такую же взаимно. Страх, который большая их часть испытывала от самой идеи о том, что от недавней эмигрантки они могут «заразиться» западным духом, мало-помалу уступил место совсем другому чувству: как было не оценить по достоинству ум, интеллигентность и блестящее остроумие этой пылкой и уникальной равно в поведении и в стиле письма поэтессы! Литературовед Евгений Тагер писал впоследствии, что ни на одной фотографии тех лет он не мог узнать Цветаеву: «Это не она. В них нет главного – того очарования отточенности, которая характеризовала ее всю, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно „вырезанными“, чертами ее лица». Другой собрат по перу, писатель Виктор Ардов, говоря о пожиравших Марину нищете, заброшенности и ностальгии, оставивших свои следы на прекрасном ее лице, утверждал и доказывал: «Она не склонила головы. Ее энергия и поразительный темперамент удивляли нас – литераторов, в тот месяц проживавших в Голицыне. Но печать пережитых страданий, так же, как и страданий нынешних, явственно выражалась в голосе и взглядах, в движениях и в тех паузах раздумья, которые овладевали поэтессой даже в веселой застольной беседе. А Марина Ивановна часто бывала веселой в нашей – случайной для нее – среде. Она легко завладевала вниманием небольшого общества за ужином или после ужина в маленькой гостиной Голицынского дома. Ее речи были всегда интересны и содержательны. Надо ли пояснять, что ее эрудиция, вкус, редкая одаренность заставляли всех нас с почтительным вниманием прислушиваться к ее словам?..» Но он добавлял и следующее: «Нельзя не помянуть еще и о том, что Цветаевой приходилось быть крайне осторожной. И нам всем не простили бы вольности в беседе в те годы. А ей – свежей реэмигрантке – надо было особенно быть начеку, ибо находились даже добровольцы, желавшие по собственной инициативе, без указаний свыше, попрекать вернувшихся на Родину людей. Получалось так: государство простило, а выслуживавшиеся личности – из подхалимства и собственной трусости – забегали, так сказать, вперед и язвили… Именно эти „добровольцы“ и обрекли Марину Ивановну летом 1941 года на гибель своей позицией „роялистов больше, чем сам король“».[279] Еврейский советский писатель Ноях Лурье вспоминал «ее импровизированные, совершено блестящие наброски портретов Андрея Белого и Ремизова». Он говорил: «У нее была злая хватка мастера, голос – громкий и резкий. Но за уверенностью тона и суждений чувствовались растерянность и страшное одиночество. Муж и дочь были арестованы, с сыном у нее, по моим наблюдениям, не было общего языка. Писатели избегали общества с ней как с бывшей эмигранткой. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии». Одна встреча с Цветаевой во время прогулки особенно запомнилась Лурье. «Нехорошо мне, Н.Г., – неожиданно заговорила она со свойственной ей прямотой и резкостью. – Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела. Я старалась больше общаться с французами. Они любезны, с ними легко, но этого мне было мало. Потянуло домой – сама не знаю, что я себе при этом представляла. Но смотрите, что получилось. Мужа забрали, дочь забрали, меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у меня и мечту отняли. <…> Боюсь, мне не справиться с этой путаницей. Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешения на въезд».[280]