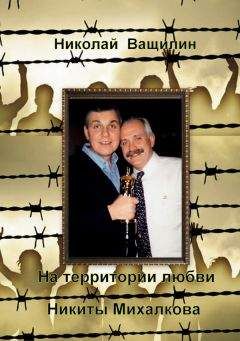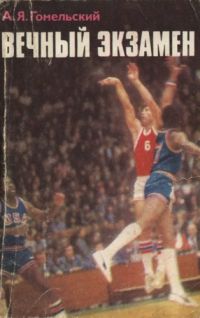Анри Труайя - Марина Цветаева
Однако круг советских друзей Марины расширился, и настроение чуть-чуть изменилось, когда она познакомилась с двумя писательницами – Верой Меркурьевой и Ольгой Мочаловой. Обе оказались готовы открыть сердце и душу новоприбывшей, пусть даже и встречи с ней иным казались опасными. И Марина восприняла это как свидетельство того, что истинная Россия все-таки не умерла.
Хотелось бы ей сказать то же самое о Франции, но там было совсем плохо: вслед за тоской пришли настоящие бедствия. Немецкие войска легко вошли в страну, гражданское население бежало из столицы по дорогам, над которыми с ревом неслись бомбардировщики, затем – оккупация Парижа, постыдное перемирие, образование под руководством маршала Петена государства фашистского толка… В то же время Сталин и Гитлер делили Польшу, русские пытались завоевать Финляндию и диктовать там свои законы, аппетиты двух победителей росли повсеместно… Вспоминая, с каким простодушием она совсем еще недавно надеялась, что Советский Союз защитит слабую Чехию от нацистской гегемонии, Марина сожалела, что ее вновь обретенная родина, отвагой и бескорыстием которой прежде ей хотелось восхищаться, теперь присоединилась к клану хищников. Наверное, ей было еще труднее разобраться в политических требованиях времени из-за того, что никто вокруг не возмущался двоедушием русских. Война – не наше дело, считало ее окружение. Она – для других. И, пока она не началась, лучше заняться проблемами повседневной жизни, тем более что их так много. Да и у самой Марины – тоже.
Ей в ближайшее время следовало покинуть Голицыно: срок ее пребывания тут заканчивался. Ко всему пошатнулось здоровье Мура. Мальчик открывал для себя Достоевского – между двумя бронхитами и двумя ангинами – и вел дневник, в котором по отношению к матери проявлялись в основном дерзость, заносчивость, подспудная склонность к мятежу и бешенство по поводу того, что приходится подчиняться. Узнав 29 марта 1940 года о грядущих переменах в их жизни, он записывает: «Мы с мамой получили новую затрещину: утром мать встретила на улице Серафиму Ивановну (упр. д/о), которая сообщила, что теперь мы должны платить в два раза больше, чем раньше. Конечно, мама этого платить никак не может. Тогда С. И. позвонила в Литфонд, и там сказали – пусть платит за одного человека и получает на одного. Теперь мы будем ходить в дом отдыха и брать пищу на одного человека и делить между собою. Итак, наше общение с пребывающими в доме отдыха прекратилось: будем брать еду на одного и есть дома. Не быть нам за столом со всеми… Мне-то лично наплевать, но каково-то маме!»
Доведенная до крайности всем этим Марина принимается искать другое жилье. Но куда идти? Все занято! Озабоченная поисками крыши над головой, она пишет 31 августа 1940 года: «Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. <…> С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня – все меньше и меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха… Остается только мое основанное нет».[281]
После нескольких бесплодных попыток обосноваться где-нибудь надолго она в конце концов возвращается к золовке, Елизавете Эфрон. Затем съезжает оттуда и селится с Муром в квартире № 20 дома № 6 по улице Герцена. Но прописку ей дают только временную, а разрешения на постоянную – нет. А ведь она должна из недели в неделю выстаивать в очередях к окошку тюрьмы, чтобы передать своим узникам дозволенную небольшую денежную сумму, предназначенную на улучшение их питания. И всякий раз она очень боится услышать роковой ответ: «В списках не значится».
Такая ситуация не может длиться вечно. Взяв себя в руки и набравшись мужества, Цветаева пишет 14 июня 1940 года новое письмо Берии: «Уважаемый товарищ, обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27-го августа 1939 г. находится в заключении моя дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го октября того же года – мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).
После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской, и ныне опять переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.
Судя по тому, что мой муж после долгого перерыва вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон – 8 месяцев, Ариадна Эфрон – 10 месяцев), мне кажется, что следствие подходит – а может, уже и подошло – к концу.
Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным (до этого он два года тяжело хворал).
Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.
Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью – два месяца, с мужем – три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.
Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание».[282]
Но и это послание, как предыдущее, осталось безответным. Тогда Марина решила переменить тактику и 27 августа 1940 года адресовала одному из наиболее приближенных к Сталину со времени смерти Горького советских писателей, Петру Павленко, письмо с изложением своего дела. Чтобы умилостивить судьбу и иметь больше шансов, она пишет по новой принятой в СССР упрощенной орфографии, без ятей, без еров, даже и собственную фамилию – тоже. Вот оно – это письмо:
«Многоуважаемый товарищ Павленко!
Вам пишет человек в отчаянном положении.
Нынче 27-е августа, а с 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой – на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы.
Начну с начала.
18-го июня 1939 г., год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз с 14-летним сыном и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше. 27-го августа (нынче годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го октября – и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо, мы просто замерзали, и 10 ноября, заперев дачу на ключ (NB! у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на площади мужа) – итак, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции и мы ей мешали.