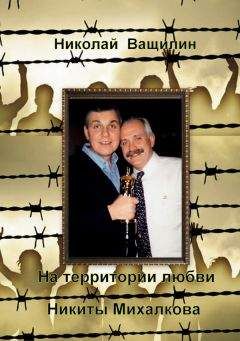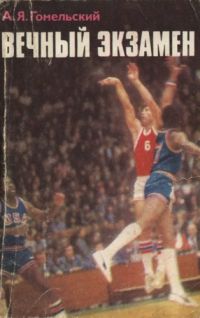Анри Труайя - Марина Цветаева
Забыла: последнее счастливое виденье ее дня за 4 на С. Х. выставке „колхозницей“ в красном чешском платке, моем подарке, сияла. Уходит не прощаясь! Я: – что же ты, Аля, так ни с кем и не простившись? она, в слезах, через плечо, отмахивается! Старик, добро. Так лучше. Долгие проводы – лишние слезы», – вспоминала Марина Ивановна год спустя.[274] «Старик» – видимо, руководитель всей операции по аресту.
Оставшись одни, глядя друг другу в глаза, мать и отец молчали, уничтоженные ударом судьбы. Вечером того дня, когда случилась трагедия, Нина Гордон, которая не входила в число самых близких друзей семьи, неожиданно приехала в Болшево[275] и увидела Марину и Сергея, укрывшихся от людей в своей комнате. «Внешне она и отец были спокойны, – напишет она впоследствии в воспоминаниях, – и только глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина собралась гладить, – я сказала, дайте я поглажу, я люблю гладить. Она посмотрела долгим, отсутствующим взглядом, потом сказала: „Спасибо, погладьте, – и, помолчав, добавила: Аля тоже любила гладить“. Сергей Яковлевич сидел на постели, у стола, напротив меня, и неотрывно смотрел, как я глажу. Его глаза забыть невозможно!»[276]
С этого дня главным занятием Марины стала беготня в Москве по инстанциям – из одного учреждения в другое: она пыталась узнать, в какую из тюрем поместили Алю, когда ее намерены судить и возможно ли передать ей хоть сколько-нибудь денег. Часто ей приходилось проводить долгие часы сидя на скамейке в коридоре какой-нибудь из тюрем, чтобы дождаться ответа. Она привозила каждую неделю разрешенные к передаче заключенным пятьдесят рублей на личные нужды и торопилась обратно в Болшево. Немного времени спустя Марина узнала, что в тюрьме у Али случился выкидыш. Не пытали ли ее, чтобы силой вырвать признание? Но нет: вроде бы после этого «инцидента» дочь чувствовала себя хорошо, да и сам он никоим образом не может быть отнесен на счет обращения с ней тюремщиков.
Затем наступило молчание. Бездна анонимности и немоты поглотила Алю.
Мура в последние несчастья сестры не посвящали. В начале сентября он пошел в ближайшую к поселку Новый Быт, где жили Эфроны, школу. Но чтобы добраться до нее, нужно было пройти полями и лесом. Одноклассники поначалу составляли ему компанию, но очень скоро эти ребята, получив соответствующие инструкции родителей, сочли более предусмотрительным не выказывать никакой симпатии одному из этих недавно возникших в деревне «белоэмигрантов», которых – кого в большей степени, кого в меньшей – подозревали в антисоветских настроениях.
18 сентября по радио объявили о том, что Красная Армия вошла в Польшу, чтобы – как было сказано – защитить братьев-славян из пограничного с Украиной и Белоруссией государства. Пресса воспевала этот первый шаг к освобождению угнетенных народов и возврату их в лоно славянской семьи. Никто и не помышлял о том, чтобы высказать протест против такого патриотического толкования событий. Марина и сама не решалась на это, потому что любые действия за пределами СССР сопровождались внутри страны оживлением охоты за шпионами, предателями и теми, кто испытывает ностальгию по капитализму. Марина сразу же стала бояться, что это снова привлечет к ее семье внимание НКВД. Страх оказался оправданным: 8 октября того же года приехали в Болшево за Сергеем Эфроном. Посреди ночи у дома возникли вооруженные до зубов люди в милицейской форме. У них был ордер на арест, подписанный народным комиссаром внутренних дел Берией. Пока шел позорный и унизительный обыск (все в доме было перевернуто вверх дном), Марина собрала в вещевой мешок кое-что из одежды, потом – уже на рассвете – перекрестила мужа и глазами, полными слез, глядела, как его уводят раздувшиеся от глупой гордости за порученное им важное дело сотрудники НКВД. Потрясенная новым ударом судьбы, которого, впрочем, она так долго ожидала, Цветаева пришла к убеждению, что рано или поздно ей и сыну уготована та же участь. Но проходили недели, а они оставались на свободе. О них просто позабыли или считали их менее опасными для сталинского режима, чем двое других членов семьи?
На первых же допросах Сергей заявил, что он невиновен, и поклялся, что коммунизм – истинная его религия. Но он совершенно напрасно пытался оправдаться: здесь ему было вменено в вину расцененное как предательство родины евразийское прошлое. И наконец, ему был задан вопрос, которого он больше всего опасался: «Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?» – «Никакой антисоветской работы моя жена не вела, – записан ответ Эфрона. – Она всю свою жизнь писала стихи и прозу. Хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские…»
Признав таким образом, что Мариной в прошлом написано несколько стихотворений, в которых она достаточно дружелюбно отзывалась о старом режиме, Сергей поклялся, что в глубине души Марина была настоящей – честной и твердой в убеждениях – революционеркой. «Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, однако она никакой антисоветской политической работы не вела», – говорил Эфрон, и в этом его свидетельстве было столько же горячности, сколько и искренности. После окончания этого допроса заключенного отправили в Лефортово, чтобы его лечить там под полицейским надзором, потому что он выглядел так, будто состояние его здоровья внезапно и резко ухудшилось. Тем не менее 1 ноября Эфрона подвергли новому допросу, еще более «продвинутому», чем предыдущий. На этот раз он признал, что эпизодически входил в сношения с тайными польскими, немецкими и даже английскими агентами. Но утверждал при этом, что всегда действовал исключительно по приказам ГПУ.
И вот 7 ноября, в «Красный день календаря», очередную годовщину большевистской революции, перед болшевским домом снова, как в прошлые разы, останавливается машина. За кем пришли теперь? За Мариной – чтобы «засадить ее за решетку»? Нет, нынче энкавэдэшники увезли ее соседей: Николая Клепинина и Алексея Сеземана. А жену Клепинина к тому времени уже взяли в Москве. Какие преступления им инкриминировались? Видимо, те же, что и Сергею. Недостаточную преданность делу Советов во время пребывания за границей, тайную симпатию к троцкистам, непростительное недовольство коммунистической «философией». И для всех – поначалу – один маршрут: мрачные подземелья Лубянки.
Сергей, со своей стороны, после многочисленных перебросок из застенка в застенок, между одним допросом и другим, одной очной ставкой и другой, был поставлен лицом к лицу с соседями по Болшеву – супругами Клепиниными. Чтобы спасти себя, жена Клепинина заявила, что ее муж и Сергей Эфрон были наняты многими иностранными государствами для того, чтобы собирать сведения о политических программах СССР. Сергей отвергал все обвинения целиком, утверждая, что они оскорбительны по отношению к его революционным убеждениям. Зато Клепинин поклялся жизнью своих детей, что откровения его супруги – увы! – совершенно правдивы и точны. Более того, он добавил в адрес своего «подельщика»: «Сережа, еще раз к тебе обращаюсь. Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно… Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить!» Потом он дружески посоветовал Сергею отбросить сомнения и признать свои ошибки. Клепинина увели. Затем состоялась еще одна очная ставка – с бывшей «евразийкой» Литауэр, и против Эфрона были выдвинуты еще более тяжкие обвинения. «Я хочу дать настойчивый совет Сергею Яковлевичу, – говорит Литауэр, – рассказывать всю правду, не скрывая ничего ни о себе, ни о других. Я говорю это как товарищ и друг…» Допрос закончился в полночь, но неопровержимых доказательств, в которых нуждались следователи, чтобы определить степень виновности Сергея Эфрона, они так и не получили. Было постановлено предоставить решение судьбы обвиняемого главному национальному инквизитору: Лаврентию Берии. Как утверждают, никому не удалось избежать психологического давления со стороны этого «вылущивателя» нужных сведений из глубин сознания. После такого поворота дела никто и никогда больше не слышал о Сергее Эфроне. Он бесследно исчез…