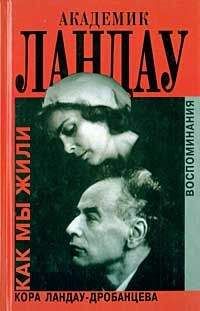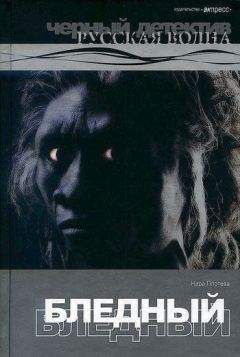Конкордия Ландау-Дробанцева - Академик Ландау. Как мы жили
— Вы ведь психолог из нейрохирургии и фамилия ваша Лурье?
— Да, да, Лев Давидович. Я просто счастлив, что вы меня узнали и даже помните мою фамилию. Я ведь давно не видел вас, а вы меня помните. Ведь это просто замечательно.
— Да, но зачем вы, по специальности психолог, пришли ко мне на врачебный консилиум? — сказал очень серьёзно и даже строго Дау.
Сияя улыбкой, Лурье объявил:
— Я именно приглашён на ваш консилиум профессором Гращенковым. — Я болен, я ещё очень серьёзно болен. У меня органические боли, и я предпочитаю, чтобы меня лечили врачи-медики, но не психологи, — явно враждебно ответил Дау.
Я заметила нервную дрожь в его больной руке.
— Когда заболеет Гращенков, он может лечиться у психологов, а я вам говорю: я не желаю, чтобы меня лечили психологи. Я вас прошу выйти из моей палаты.
Лурье не знал характера здорового Дау. Он уже не был беспомощным пациентом Института нейрохирургии. Психолог Лурье стал доказывать физику Ландау, как наука психология нужна медикам, чтобы лечить Ландау.
И мой нежный Зайка приподнялся с постели и взревел львом. Я впервые увидела, что Дау — лев. Он был страшен в гневе. Он взревел: «Пошёл вон, дурак, отсюда…»
Как пробка Лурье выскочил из палаты. Испуганные медики все исчезли вместе с Гращенковым. Консилиум не состоялся. Дау был взволнован, он весь дрожал. Медицинский осмотр больного надо было отложить.
— Я этому дураку Гращенкову говорю: «У меня болит живот, у меня болит нога». А он мне пригласил психолога!
Я вспомнила слова Зельдовича, как Дау на одном из заседаний Курчатова «взревел львом», вскочил, высказался, а выйдя, так хлопнул дверью, что сам Курчатов содрогнулся.
Когда Дау работал на Курчатова, было модно обеспечивать охрану крупных физиков. Когда Дау узнал, что есть решение прикрепить к нему так называемых «секретарей», которые посменно будут его охранять (академика Алиханова уже охраняли и многих других тоже), он сначала взбеленился: «Пусть посмеет Курчатов сунуться ко мне со своими секретарями. Я свободный человек, я не потерплю никакой охраны в виде надзора!». Женька старался его урезонить — не помогло.
Дау бушевал, тогда Женька сбегал за Вениамином Львовичем, пришли ещё некоторые ученики Ландау. Померанчука среди них не было. Я слышала, как они наступали на Дау, говоря: «Дау, пойми. Это не те харьковские времена, когда в университете ректора Непоросного ты учинил скандал. Перевёл на 4-й курс одного студента, а 99 оставил на второй год. Сам Затонский, министр просвещения Украины, приезжал из Киева на этот скандал, и он не смог убедить тебя, что студенты, не знавшие тригонометрии, могут стать физиками. Тебе было предложено уволиться по собственному желанию, тогда ты был один. А твою научную карьеру испортить невозможно. Но сейчас мы, все твои ученики, готовы за тебя в огонь и в воду. Все мы существуем за твой счёт, за счёт твоего таланта, за счёт твоей нужности государству. У нас, всех твоих учеников, уже семьи и дети. Возможно, тебе понравилось в тюрьме, но мы не хотим быть репрессированными, ты сгубишь наши научные карьеры. Мы этим бурям противостоять не сможем. Дау, пожалей нас, пожалей наших детей. Ты должен думать о нас, о наших судьбах. И у тебя уже есть сын и Кора. Ты должен думать и об их судьбе».
Дау умолк, физики ушли. Я поднялась к нему в кабинет. Он неподвижно лежал на тахте, лицо серое, глаза потухли.
— Даунька, почему ты так боишься этих «секретарей»? — Коруша, это не по мне. В этом есть некое посягательство на свободу человеческой личности. Я боюсь, что могу скиснуть, как помнишь, скис, когда ты стала меня ревновать. Тогда я выключаюсь, тогда я не могу заниматься наукой.
— А технические расчёты для Курчатова делать сможешь?
— Смогу, но тогда я стану Игорем Евгеньевичем Таммом. Человеком весьма благородным, но лишённым радости творчества. Наукой заниматься не смогу, но ты не бойся. Меня мои ученики уговорили, я уже готов согласиться, я даже могу очень преуспеть, занимаясь техникой. Техникой можно заниматься и в кислом состоянии. Наверное, даже стану верным мужем, но, Коруша, невыносимо лишиться радости настоящего творческого наслаждения!
— Так не лишайся, если ты серьёзно уверен, что не сможешь заниматься наукой. Подумаешь, будешь беречь благосостояние семьи Левичей. Вовкина вторая жена Татьяна уже не помещается на одном стуле. Они народили себе детей, а ты ради них должен бросить науку и заняться техникой. Дау, это глупости, я слыхала, они проявили заботу даже обо мне и Гарике. Так вот, Зайка, завтра на этом заседании так и скажи: в охраняемом состоянии ты не сможешь заниматься наукой.
— Коруша, но ведь Сталин ещё жив! Ты не боишься остаться с Гариком одна?
— Нет, Дау, не боюсь. Я здорова и трудоспособна. А безработных в нашей стране нет!
И Даунька ожил, глаза опять засверкали.
— Я сам, Коруша, знаю, что им завтра скажу. А охраны у меня не будет. «Я не такая, я иная, я вся из блёсток и минут». — Зайка, как ты мог послушать этого Женьку и Левича?
Но тогда Дау был здоров. А сейчас этот профессор психиатрии Лурье, чтобы оправдать своё профессиональное ничтожество, объявит Ландау сумасшедшим. И все, все поверят! «Выгнал профессора», «разогнал консилиум». Жаль, Кербикова не было на этом консилиуме. А Топчиева вообще больше нет. У кого искать защиты?
Мои мрачные мысли прервала медсестра, вызвав меня от Ландау. Сообщила, что меня ждёт Гращенков в комнате дежурных медсестёр. Гращенков был один. Он встал, закрыл плотно дверь. Сказал: «Мне необходимо с вами поговорить». Хорошего мне от Гращенкова не ждать!
— Николай Иванович, как вы объясните, — начала я оборону с наступления, — с точки зрения вашей теории о потере ближней памяти у Ландау. С Лурье он познакомился после травмы, но однако он без труда его узнал и даже назвал его фамилию. Вы ведь все время в командировках. Вы мало видите своего больного. Я пришла к заключению, наблюдая его ежедневно, что потери ближней памяти у него нет. У него провал памяти на последние два года перед травмой. Но этот провал памяти тоже восстанавливается.
— Конкордия Терентьевна, вы не медик, я не могу с вами дискуссировать. Мне с вами необходимо обсудить один очень важный вопрос. Вы заметили или нет интимные отношения вашего мужа с одной из медсестёр?
— А разве это ему вредно?
— Нет, это ему полезно и даже необходимо, но не с медсестрой, а с женой и дома!
Возмущение меня обожгло. Я вскочила:
— А если, если медсестра с этим лучше в его состоянии справилась… эта разница для медицины должна быть существенной?
— Для медицины не существенно. Но вас, как жену, это не затрагивает? Нас, всех медиков, это волнует.
— Этот вопрос обсуждению не подлежит, — теряя силы, сказала я и поспешила выйти. К Дау зайти не смогла, был слишком мерзкий осадок, хотелось уйти от самой себя. Тревога нарастала: почему медики не интересуются его животом, его ногой, его сигналами о боли? Почему они без конца лезут в психологию, а теперь хотят диктовать ему, больному, с кем он должен спать. Это было издевательством над его личностью, вернее, над естественными человеческими инстинктами.