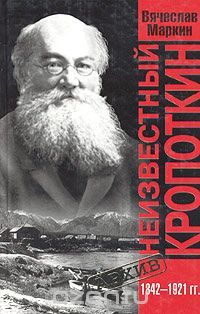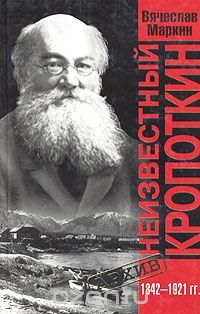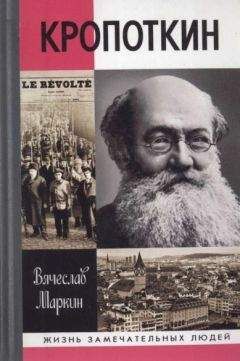Владислав Гравишкис - В семнадцать мальчишеских лет
Ариша принесла шинель, села рядом и стала распарывать ее по швам.
Гудели шмели, трещали кузнечики, курилось марево над полем, в знойном воздухе стоял звон. И словно из этого звона выпадала песня:
И младший сын в пятнадцать лет
Просился на войну…
Поплыла земля. Вспомнился Витька Шляхтин — сердечный друг, заводской пруд, мать с ребятишками. Как они там?
О тех, кто остался
Тюремный поп Михаил выступал в церкви: «Не только большевиков, но и детей их расстреливать должно! Из них большевики вырастут…»
Из воспоминаний М. П. ИпатовойКогда Ванюшка оставил мать с сестренками и братом возле чужого дома и затихли его шаги, Мария Петровна пошла к прибежищу. Хозяйка оказалась приветливой, накормила ужином и, постелив постель в свободной комнате, ушла. Младшие скоро уснули. Тоня подсела к матери, прижалась:
— Мама, не беспокойся, он у нас верткий, не поймают его. В «чижика» или в шаровки его никто не мог обыграть.
Завозились воробьи за окном, забрезжил рассвет. Медленно прошел поезд, на крышах — белые флажки. Когда рассвело, мимо прошли эсеры, впереди с белым флагом — Провизин. После революции стал старостой в Ветлужской церкви. За ним — Перевалов, тоже из церковного совета. На обоих кафтаны с парчовой отделкой, на груди медали «За верную службу». Идут встречать белочехов. А потом будут служить благодарственный молебен новым союзникам-братьям.
Мария Петровна забыла в эту минуту о Ванюшке: столько было в душе ненависти.
Еще не вышло солнце, а в городе начались повальные обыски и аресты.
— Не спите? — вошла хозяйка с подойником. — А там комиссара поймали, ведут расстреливать. Идемте смотреть.
— Нет-нет, — ответила Мария Петровна.
За окном двигалась толпа. В середине ее человек в разорванной рубахе, в кровоподтеках, с непокрытой головой и связанными руками.
«Батюшки, Георгий!» — чуть не крикнула она.
Это он, Георгий Щипицын, месяц назад выставил состав с белочехами на выемку.
Толпа будто несла его.
Он высоко держал голову.
Проснулись дети. У Ниночки — жар. Звать доктора — раскрыть себя. Собрала ребят и пошла через Косотур в город.
Лето входило в силу, солнце пекло. Дети просили пить. Младшую несли по очереди с Тоней. Спустились с горы. На Долгой улице махнула из окна Ганя Хрущева, знакомая по подполью.
— Мария Петровна, куда же вы?
— Ганя, дай воды ребятам.
— Меня за восемь лет ссылки успели забыть, а вас тут знают как большевичку. Может, у кого перебьетесь?
— Если б я была одна. Спасибо на добром слове.
Пересекла улицу, поднялась по Крутому переулку к Никольской церкви, где поменьше людей. На Малой Славянской, у здания полиции, часовой закричал:
— Заходи, Ипатова, давно ждем!
Он провел на второй этаж, где было накурено и где среди прочих увидела эсера Киселева. Спросила:
— Костя, что вы со мной будете делать?
— Для начала арестуем, и до конца следствия будешь сидеть в тюрьме.
— Если ты скажешь, что знаешь меня, то я скажу, что ты убил мастера Енько. За одно это твои новые друзья тебя сотрут в порошок.
— А тебе поверят? — Киселев обнажил прокуренные зубы.
— Если и не совсем поверят, то голову тебе так оторвут, на всякий случай.
У Киселева задергалось веко.
— Наши вернутся, спросят с вас за все, — Мария Петровна поглядела в упор.
— Молчу.
— Слушай дальше. У нас на голубнице тюк литературы — пуда два. Спрячешь, пригодится.
Киселев облизал сухие губы:
— Только и ты — молчок.
Из двери вышел человек с винтовкой:
— Ипатову!
После допроса ее отвели в подвал, набитый женщинами. Это были жены и матери тех, кто отступил с Ковшовым. Многие плохо представляли, куда ушли их близкие, и им казалось, что расстались навеки. Они провели в подвале бессонную ночь, страдали от жажды и не смели просить воды.
Мария Петровна огляделась и устроилась с детьми у стены. В углу голосила женщина. Возле нее, скрючившись, стоял мальчик.
— Что с тобой? — спросила Мария Петровна.
Женщина не ответила. Кое-как удалось узнать, что у мальчика, вероятно, дизентерия, а его не выпускают. Мария Петровна подошла к часовому:
— Передайте Ковалевскому, что его Ипатова просит.
Часовой ушел и вернулся с сухощавым лысоватым человеком.
— Велите вывести вон ту женщину, пока парнишка у нее не извелся.
Ковалевский поморщился от тяжелого воздуха.
— Иначе многих вам придется отправить в госпиталь, а ведь он вам нужен для раненых. Да ведро воды поставьте.
Ковалевский ушел. Часовой вернулся, поставил ведро с водой и вывел женщину с мальчиком. У ведра возникла давка.
— Стойте! — Мария Петровна загородила ведро, зачерпнула кружкой и подала самой крикливой женщине.
— Пей. А теперь раздавай по очереди, сперва детям.
Кое-кто не мог подойти к ведру. Невменяемой старухе, у которой расстреляли сына, положила на лоб мокрую тряпку. На другую прикрикнула:
— А ну, перестань выть! — и обратилась ко всем: — Вы не виноваты, значит, реветь нет причины. Вызывать на допрос будут, отвечайте: знать не знаем и ведать не ведаем, за что мучаемся тут. Да не тряситесь перед ними, а держитесь так, чтобы своим не стыдно было в глаза смотреть, когда вернутся.
— Ипатова! Ты и здесь агитируешь? — на пороге стоял Ковалевский. — Давай своих детей.
— Для чего они тебе?
— Приказано в приют отправить.
— Детей моих ты не получишь.
— Тогда возьмем силой.
— Нет, не возьмешь.
— Ввиду чрезвычайного положения, мы вынуждены, — пустился в пространное объяснение Ковалевский, — мы можем…
— Вы можете меня посадить в тюрьму или убить вместе с ними, а отобрать не можете.
Ковалевский ушел, но скоро вернулся. Дети прижались к матери.
— Берите их, — приказал часовым.
— Лучше не подходите, — предупредила Ипатова.
— Для вашей же пользы…
— Чтобы в приюте их в белый цвет перекрасили? Стрелять поведешь, пойду вместе с ними, а отдать не отдам.
— Да образумьтесь, что вы говорите.
— Говорю, что думаю.
— Не уйдем от мамы, — Тоня встала впереди нее.
— Не уйдем, — и другие прикрыли ее собой.
— Ну гляди, Ипатова, пожалеешь о своих словах, — пригрозил Ковалевский и ушел. А когда пришел в третий раз, женщины загородили собой Марию Петровну.
Ночь прошла снова без сна. Наутро некоторых освободили.
— А ты, Ипатова, готовься в тюрьму, — злорадствовал Ковалевский.