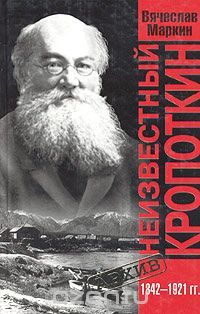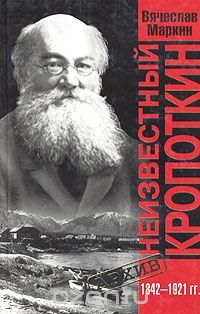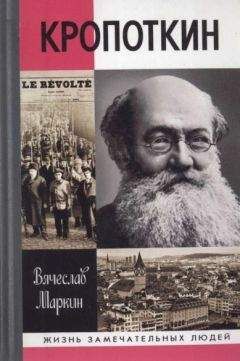Владислав Гравишкис - В семнадцать мальчишеских лет
— Собирай ребят, отступать будем, а я к соседям — попрошу лошадь.
Соседей дома не оказалось. Он пошел выше по улице, встретил Шурку Шляхтину, спросил:
— Витька где?
— Не знаю.
— Увидишь, скажи — отступаем.
У Десяткина лошадь стояла во дворе. Опираясь на черень вил, Десяткин уставился на Ванюшку:
— Зачем тебе лошадь?
— Белые фронт прорвали.
— Отец-то что не сам пришел?
— С Ковшовым отход прикрывает.
— Бежите, боль-ше-ви-ки…
Сосед радовался.
— Не дам я тебе лошадь, понял? Не дам.
— Запрягай!
— Ты что орешь на меня? Я тебе кто?
— Не запряжешь, убью! — Ванюшка наставил револьвер, добытый в Кусе.
— Что ты, Ваня, что ты, — тот попятился к конюшне.
Пока Десяткин запрягал, подошла Мария Петровна с детьми. Ванюшка усадил в телегу Витю и Ниночку. Тоня с Леной сели сами. Не выпуская револьвера, пошел рядом.
В штабе уже не было никого. На улицах тишина. Поехали на вокзал. Темнота застала в Ветлуге. Не доезжая до станции, остановились. Ни души. Неподалеку жил двоюродный брат Марии Петровны, и она пошла к нему. Света в окнах не было, дверь — на замке. Рядом разговаривали. Она подошла.
— Кого потеряла? — спросил хромой старик.
— В Кусу надо, не здешняя я, — на всякий случай сказала Мария Петровна, — а поезда почему-то не ходят.
— Теперь не скоро пойдут.
— Ребятишки у меня…
— Заходи, переночуешь, — предложил старик.
— У вас тесно, — возразил другой, — к нам веди ребят, у нас просторно.
Она побежала обратно к повозке. Ванюшка снял спящую Ниночку, передал матери и отпустил Десяткина:
— Спрашивать будут, скажешь: довез до станции и ссадил. Понял?
Десяткин огрел кнутом лошадь, и телега запрыгала по камням.
— Обо мне не беспокойся, мама, — сказал Ванюшка. — Если наши еще на Заводской платформе, прикрывают отход, достану лошадь и приеду за вами.
Он побежал в гору, оглянулся — мать с ребятами пропала во тьме.
Поход
Он не вернулся. Едва добежал до Заводской платформы, как паровоз тонко свистнул в жидкую тьму июньской ночи, со стуком дернулись вагоны, и огни Ермоловской домны плавно потянулись назад. Огибая Паленую гору, поезд потащился к Тундушу.
Ванюшка нашел отца на открытой платформе вместе со Степаном и Лаврентием Желниными, Александром Крутолаповым, его сыном Алешкой. У Алешки он спросил о Шляхтине, но тот Рыжего не видел.
Осторожно, словно пробуя песню, в ночь вылетел голос:
Как у нас по селу
Путь-дорога лежит.
По степной по глухой
Колокольчик звенит.
По мосту прозвенит,
За горой запоет,
Молодца-удальца
За собой позовет…
— Тоскует Арина, — пожалел Лаврентий Желнин.
После похорон Аркадия Араловца она пришла в штаб Красной гвардии и попросила работу. Мыла полы, кипятила чай, чинила одежду и теперь поехала с отрядом медсестрой.
— Да-а, — протянул задумчиво Степан, отвечая на какой-то свой вопрос, — вот оно что выходит.
Поезд шел. Песня летела над Аем. Дослушали — и тут хватил Степан:
Гуди, набат, сильней над Русью,
Смелей, настойчивей гуди…
— Во! — Иван Федорович подключился рокочущим басом. А за ним Крутолаповы и Ванюшка.
Гуди, набат, гуди сильнее,
Гуди над Русью без конца…
Пусть от твоих ударов мощных
Дрожат холодные сердца!
Миновали Шишимские горы, где раньше ломали мрамор для дворцов Москвы и Петрограда. Поезд сбавил ход, словно прощупывая дорогу, дошел до моста через Ай и остановился. К платформе подошел Ковшов.
— В чем дело? — спросил Иван Федорович.
— А в том, — ответил Ковшов, — нет ли в Тундуше белых?
Этого никто сказать не мог. Известно было, что они двигались от Уфы. Но где сейчас?
— Ваня, — позвал Иван Федорович, — слетай на станцию, узнай обстановку — белых нет ли?
— А справится? — засомневался Ковшов.
— А вот и посмотрим, — улыбнулся Иван Федорович.
Несколько минут спустя младший Ипатов вышагивал по насыпи, перекинув через плечо недоуздок. Было прохладно и пустынно. В стороне, откуда шел, алела полоска зари. До станции никто не встретился. Да и там было пусто. Только неизвестно зачем стоял маневровый паровозик, казавшийся окоченевшим. Должен же кто-то здесь быть? Не провалились же? Окно в будке стрелочника не светилось. Ванюшка прогорланил частушку, которую певал отец Рыжего с получки:
А ты, секира, ты секира —
Востроточенный ты нож!
В дверь будки высунулся мужичонко и, зачем-то подняв над головой погасший фонарь, рассердился:
— Чего орешь-то?
— Боюсь я, — ответил Ванюшка.
— Боишься, а орешь.
— Цыганов боюсь, они лошадей крадут.
— Да ты-то лошадь, что ли? — будочнику стало весело.
— Буланка потерялся, не найду, отец выпорет.
— Чей ты?
— Петров из Медведевки.
— Это у которых на масленице баня сгорела?
Ванюшка кивнул.
— Так у тех Гнедко был.
— Обменяли на Буланку, воз овса приплатили. Ниже колен белые перевязочки и вот тут лысинка.
— Нет, не видел. Закурить нет ли?
— Есть махра моршанская.
— Заходи, у меня тепло.
— Цыганы, — сокрушался Ванюшка, — это их дело. А еще белые могли взять в свою армию.
— Ну, где ты их видел, белых-то? В Бердяуше, говорят, объявились, будь они неладны.
— Выронил, — Ванюшка шарил по карманам, — как сейчас помню, вот сюда клал кисет.
Но, озабоченный мыслью о белых, стрелочник не обратил внимания.
— Наши коней в луга согнали, от греха подальше. Вон за Аем огонек блазнится — там.
— А Златоуст белые заняли, — как бы между прочим сообщил Ванюшка.
— Н-но! Откуда ты знаешь? Постой, постой… А может, ты тоже, а? Коня будто ищешь, а сам, а?
— Сосед вечером пригнал оттуда — лошадь в мыле: заняли, говорит, город.
— Красные-то что глядят? Что, спрашиваю? То-то, думаю, ни с той, ни с другой стороны дымка не видать — не идут поезда. А оно вон что. Нашим надо будет сказать. Да и мне что тут высиживать? А ты заверни в луга, может, твой Буланый прибился.
Ванюшка прошел по поселку. Улицы имели самый мирный вид. У ворот — поленницы дров, телеги с поднятыми оглоблями. Дорогу неторопливо переходили кошки. Во дворах лаяли при его приближении собаки, словно бы передавали друг другу незнакомого человека. Стрелочник говорил правду: белых не было. Вернувшись, Ванюшка обстоятельно доложил обо всем, что видел, Ковшову.