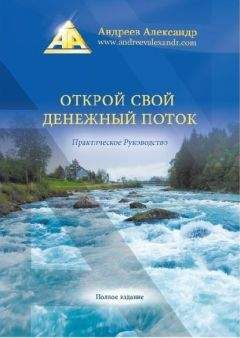Вадим Андреев - История одного путешествия
Это было написано еще в январе 1921 года, но теперь он обвинял А. Кусикова, поэта, появившегося на пути Аси Тургеневой значительно позже и известного в Берлине тем, что он «был из компании Сергея Есенина». И хотя Андрей Белый в альманахе «Эпопея» напечатал стихи Кусикова, он говорил о нем презрительно: «Кавказец, который никогда не видел кавказского кинжала», — и любил повторять строчку, в которой Кусиков сам говорил о себе: «поэт с мелкозубой фамилией Кусиков». В этой нелюбви была беспомощность, Андрей Белый невольно вызывал жалость к себе, и вспоминалось его старое стихотворение:
…Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите,—
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь!
(«Пепел», 1907)
Берлинская ночь сгущалась над ним. Он говорил, волнуясь и горячась, сверкая своими зоркими глазами, воздевая руки, о гибели цивилизация, о джаз-банде, затопляющем мир. Он много пил, иногда целые ночи пропадал в кафе, где танцевал под этот самый джаз фокстрот и входивший тогда в моду шимми. Андрей Белый был человеком, связанным с германской культурой больше, чем с культурой романских стран. Может быть, отчасти этим объясняется его внезапная и острая неприязнь к Франции. Волнуясь и горячась, он говорил об огромном теле с маленькой головой и пояснял: метрополия в двадцать раз меньше колоний, которыми она владеет.
Однажды я встретил Андрея Белого в кафе, — это было в Альбеке, небольшом курортном местечке на берегу Балтийского моря. Я сидел в продымленной зале, стены которой были обшиты простыми сосновыми досками: кафе помещалось в бараке, служившем во время недавней войны продовольственным складом, — в воздухе стоял леший но неистребимый запах подгнившей капусты. Молодой артист в черном костюме, из которого он вырос, мелькая желтоватостью гуттаперчевых манжет, выскакивавших из-под рукавов пиджачка, читал патриотические стихи: французы за неуплату военных репараций грозили оккупировать Рур.
Артиста с гуттаперчевыми манжетами сменила певица. Мешкообразное черное платье было перехвачено зеленым поясом, спускавшимся ниже бедер. Подстриженные коротко волосы обрамляли маленькую голову, похожую на детский воздушный шар. Сентиментальная песенка, которую она исполняла, подходила к ее голосу, немного шопелявому и воркующему.
— Мейн либхен, — пела она, — куда же ты запропастился? Мой муженек уехал в Любек, а ты не приходишь… Мейн либхен, Минни ждет тебя!
Ее песенка была похожа на пересахаренный кофе по-варшавски, в котором плавали скользкие хлопья ленок, но публике песенка понравилась, и певицу долго не отпускали. Наконец оркестр, устроившийся в углу барака, заиграл фокстрот.
Андрей Белый, сидевший за столиком, заставленным пивными кружками, в компании сильно подвыпивших немцев, выскочил на середину залы, подхватив по дороге проходившую мимо женщину, и пустился в пляс. То, что он выделывал на танцевальной площадке, не было ни фокстротом, ни шимми, ни вообще танцем: его белый летний костюм превратился в язык огня, вокруг которого обвивалось платье, плясавшей с ним женщины. Мне вспомнились его слова о том, что «жесты огня повторяют себя в лепестках цветов» и что цветы — «напоминания об огнях космической сферы».
12
Кажется мне, патриотическая тема в классической русской поэзии не всегда была основной. Мы с детства помним «О чем шумите вы, народные витии», «Люблю отчизну я, но страшилою любовью», «Бородино», «Умом Россию не понять», но все же в XIX веке только у Некрасова Россия была ведущей темой всей его жизни во всех ее мучительных противоречиях: «Ты и убогая, ты и обильная…» В XX веке у русских символистов тема родины ворвалась в их творчество с необыкновенной силой — ведь недаром же молодой советский поэт Олег Еремеев в чудесном стихотворении, посвященном России, рассказывая о том, как у костра, ночью, в лесу пронзает его ощущение родины, заканчивает стихотворение: «Уж не мечтать о подвигах, о доблестях, о славе» — блоковскими словами, сказанными совсем по другому поводу. Тот, кто, казалось бы, жил в мире отвлеченных понятий, кто «провидел» Софию Премудрость, говорил туманным и невнятным языком, вдруг, как только тема России взрывалась в нем, находил слова ясные и реальные, как бы лишний раз доказывая, до чего условны литературные ярлыки.
«Куликово поле» — вершина так называемой символической поэзии. И тот же самый Блок пишет стихи, удивительные по зоркости и беспощадности, стихи совершенно реалистические: «Грешить бесстыдно, непробудно…», которые кончаются строчками, непревзойденными по силе любви: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне».
Ужасом реакционного безвременья после революции 1905 года был обожжен — и сожжен — Андрей Белый:
Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.
Вот он, свистящий над степью северный ветер…
Роковая страна, ледяная,
Проклята я железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?
И в том же 1908 году — «Отчаянье»:
Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —
Туда, на равнине горбатой, —
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,
Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, —
Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
(«Пепел», 1908)
Ведь недаром же вся книга «Пепел» посвящена памяти Некрасова. Революцию Андрей Белый встретил восторженно:
…И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!
Однако, когда я как-то в разговоре напомнил ему эти стихи он с ненавистью обрушился на самого себя: