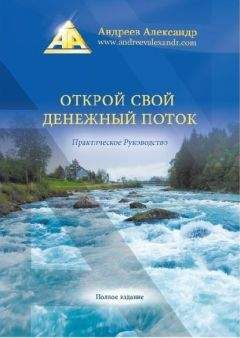Вадим Андреев - История одного путешествия
И второе прочитанное им стихотворение я цитирую по альманаху «Эпопея», где оно было напечатано впервые, без разбивки на отдельные строчки, подчеркивающие мелодические паузы (в «После разлуки» оно напечатано «в разбивку», то есть так, как он читал в тот вечер).
Ты — тень теней… Тебя не назову,
Твое лицо — холодное и злое;
Плыву туда — за дымку дней — зову,
За дымкой дней, — нет, не Тебя: былое, —
Которое я рву (в который раз),
Которое, — в который раз восходит, —
Которое, — в который раз алмаз —
Алмаз звезды, звезды любви, низводит.
Так в листья лип, провиснувшие, — Свет
Дрожит, дробясь, как брызнувший стеклярус;
Так в звуколивные проливы лет
Бежит серебряным воспоминаньем: парус…
Так в молодой, весенний ветерок
Надуется белеющий барашек;
Так над водой пустилась в ветерок
Летенница растерянных букашек…
Душа, Ты — свет. Другие — (нет и нет!) —
В стихиях лет: поминовенья света…
Другие — нет… Потерянный поэт,
Найди Ее, потерянную где-то.
За призраками лет — не призрачна межа;
На ней — душа, потерянная где-то…
Тебя, себя я обниму, дрожа,
В дрожаниях растерянного света.
В тот вечер «ты — тень теней» произвело на меня впечатление, которое я не могу назвать иначе как потрясающим. Боль разлуки обожгла смени. Я повторял, повторяю и буду повторять: «…былое, — которое я рву (в который раз), которое — в который раз восходит, которое — в который раз алмаз — алмаз звезды, звезды любви, низводит…» — и каждый раз я чувствую, как озноб ползет по спине, как рыданье схватывает горло и что я никогда не сумею объяснить, почему это происходит…
Первым взял слово Юшкевич (председательствовал, помнится, Б. К. Зайцев) и голосом одного из своих героев, который, глядя на голую спину своей жены, говорит: «И сколько же кур я в эту спину впихнул», — произнес:
— Не понимаю я вас, Борис Николаевич, — мы, прозаики, не знаем, как нам избавиться от слова «который», а вы его раз десять поминаете. Кроме того, и вы и Ходасевич подражает Блоку. В наши дни все пишут «под Блока» — звезды, туманности, сияния. Впрочем, теперь начинают писать под Маяковского: бум, перебум — бац, — но от этого не легче. Как будто в русской поэзии нет других путей.
Через всю комнату пронеслись бешеным вихрем возмущения отдельные слова Андрея Белого:
— При чем тут Блок? Ходасевич — анти-Блок. Стихи Ходасевича тверды, как камень, в них нет ни капли влаги. А слово «который»… на этом слове построено все стихотворение…
Ю. Айхенвальд, прикрываясь выпуклыми стеклами очков, похожих на два черепашьих панциря, своим мягчайшим, обволакивающим голосом долго говорил о том что Белый, несмотря на первое впечатление и на принадлежность к той же символической школе, Блоку не подражает, что кроме влияний Блока и Маяковского есть еще влияние Бунина. Тут Айхенвальд процитировал стихотворение Вл. Сирина, в котором, по его мнению, бунинская ясность побеждала блоковскую расплывчатость.
11
К груде рукописных листов, запрудивших письменный стол Андрея Белого, прибавился еще один листик, с моим стихотворением, выбранным для «Дней».
Одновременно с непринятыми стихами был зачеркнут и мой псевдоним — Вадим Велигорский.
— Что ж, пусть будет — Велигорский. Был же у нас писатель — Вонлярлярский, — сказал мне Борис Николаевич.
Ассоциация Велигорский — Вонлярлярский родила во мне еще одну — дарвалдая, хотя она была столь же произвольной, как первая. Псевдоним показался мне надуманным и претенциозным, несмотря на то, что Велигорская — фамилия моей матери. И я, зачеркнув псевдоним, поставил настоящую фамилию, утешая себя тем, что в те годы имя Вадим было редким. Другие стихи — отвергнутые — лежали в мягком гробу моего пиджака. Однако груз, казавшийся поначалу большим, понемногу терял свою тяжесть: неслышно двигаясь по комнате, Андрей Белый колдовал: слова, жесты, голос — волшебство и магия.
— Мы ходим по трупам своих собственных стихотворений, — говорил Андрей Белый. — И не только первые годы, но и потом, до конца жизни. Я не могу перечесть почти ни одного своего стихотворения без мучительного желания его исправить. Мне кажется, что звук не соответствует тайному смыслу того, что я написал.
Через много лет я узнал, что замечательный художник Пьер Боннар (1867–1947), живопись которого была многие годы заслонена работами Пикассо, Матисса, Брака и по-настоящему оценена только в наши дни, приходил в музеи, где висели его картины, и потихоньку, шока не видят сторожа, исправлял то, что ему казалось несовершенным. Иногда, исправляя, он портил свои картины, как Андрей Белый портил свои стихи.
— Еще до знакомства с Блоком, — широкий жест, как бы обнимающий весь мир, — я писал одураченный тогдашними условностями поисков идеала. — И вдруг, резко: — Идеал не ищут, он приходит сам — для того, чтобы опять уйти. В молодости я написал стихотворение о Кентавре — «Был страшен и холоден сумрак ночной». Но я заблудился — Вергилий, сопровождавший меня в моих поисках, расплывался в тумане. Он был мне неясен; менял облик: становился гигантом, потом томом, наконец — брюсовским фавном. Мне казалось, что идея стихотворения непонятна, и вот появились новые строчки: «Я плакал безумно, ища идеал, я струны у лиры в тоске обрывал…» В конце концов я понял, что первый образ человеко-коня, кентавра, существа, соединяющего звериное благородство с человеческим донкихотством, — единственно верный и что строка «Я плакал безумно, ища идеал» — ошибка, что это беззвучная, поясняющая мысль и ей не место в стихах. Случайно зарифмованная, мертвая логика. Стихотворение тонуло, как будто свинцовый груз его тянул на дно.
Жестом утопающего Андрей Белый схватил пустой воздух. Медленно опустил сжатые кулаки. Я увидел: так тонут стихи.
Борис Николаевич забыл обо мне, хотя вначале вспомнил о «Кентавре», вероятно, для того, чтобы меня утешить, — он принял одно стихотворение из десятка мной принесенных. Завороженный, я слушал его — магия, волшебство. Демиург, превращающий идею в ему одному понятное видение. А сам он был похож на серебряного голубя, мятущегося в многоугольной «летке берлинской пансиона.
— Я существую, и я — субъективен. Я вижу мир, трогаю его жадными руками. За субъективностью моих импровизаций, моих образов, за гармонией звуков и красок, мной создаваемых, — внеобразный и несубъективный корень.