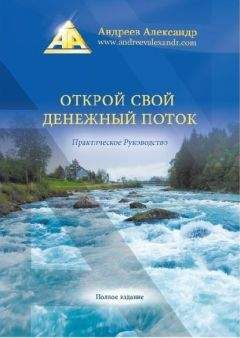Вадим Андреев - История одного путешествия
Мы сошли с террасы и пошли вдоль пляжа. Владислав Ходасевич о таком же немецком пляже писал злые стихи:
Лежу, ленивая амеба.
Гляжу, прищуря левый глаз,
В эмалированное небо,
Как в опрокинувшийся таз.
Прибой ему кажется размыленной пеной, весь мир — огромным умывальником.
…А по пескам, жарой измаян,
Средь здоровеющих людей
Неузнанный проходит Каин
С экземою между бровей.
Таким неприкаянным Каином представлялся мне Андрей Белый. Он шел, отворачиваясь от видимого мира, солнце не светило для него. Штейнер обманул, экзема вечного одиночества все глубже врезалась между бровей.
Однако в Альбеке жили не только люди, интересовавшиеся кишками. В то лето 1923 года маленький немецкий курорт оказался осколком «русского (эмигрантского) Берлина». Вскоре составился литературный кружок, чем-то напоминавший «салон» Наденьки Ланге. Среди участников кружка оказался Борис Бродский, выпустивший незадолго перед тем антологию русской эротической поэзии («эротической» было вставлено издательством — для более успешного сбыта книжки).
Мелькнул даже Александр Берг, впрочем скоро исчезнувший — Альбек показался ему слишком незначительным местом. Нам удалось устроить «вечер» с Андреем Белым…
Народу было не много — человек десять — двенадцать. Кто-то предложил буриме, но игра не получилась. Борис Николаевич заговорил о тайне созвучных слов, привел пример: «От чего отчалил отчаянный? — от чела». Я сочинил двустишие, где рифмовалось «индивидуум — инда виден ум». Бродский попросил Андрея Белого прочесть любимое стихотворение. Борис Николаевич прочел два: «На что вы, дни» Баратынского и «Скифов» Блока. Я Баратынского знал больше, чем в размере гимназического курса, хорошо помнил рассуждения Клингера об «озябнувшем кристалле» и «приветном тумане», но только чтение Андрея Белого открыло мне всемирную величину поэта, увидевшего абсолютную пустоту небытия, повторявшею, как Екклезиаст: «Кто умножает знания — умножает скорбь». Соединение звука слова с неожиданными и всегда точными жестами рук, движениями подхваченного танцем тела могло вызвать или улыбку, или ужас, — во мне вызвало ужас. Как я был поражен ошибкой известного литературоведа М. Л. Гофмана, который в предисловии к «Стихотворениям» Баратынского, вышедшим в издательстве Гржебина в Берлине, в слове «оно» увидел грядущее, не поняв, по-видимому, всего ужаса, когда уже прожившая свою жизнь душа смотрит на еще живое тело! С тех пор и на много лет попал я под власть Баратынского и, как и он, начал «любить и лелеять недуг бытия».
Затем Андрей Белый прочел «Скифов». Он отступил в глубину комнаты, сжался, как перед прыжком, но голосом твердым и громким произнес: «Мильоны — вас…» — и вдруг бросился вперед: «Нас тьмы, и тьмы, и тьмы…» Слова отделялись паузами, как будто он каждый раз преодолевал препятствие. «Попробуйте, сразитесь с нами…» Руки, множась, как крылья у шестикрылого серафима, взлетают над головой и внезапно исчезают, — выкинутые вперед, они превращаются в два смертоносных копья. «Да, скифы… — большая пауза, удар: — мы!..», «да, азиаты, — второй удар, — …мы!..» Копья исчезли, только глаза озаряют всю комнату нестерпимым блеском: «…с раскосыми… и…» Длинная пауза — и громогласно: «жадными… очами».
Конечно, теперь, через много лет, я не могу с достоверностью восстановить всех движений Андрея Белого, необычных модуляций его голоса. Помню, как в конце, при словах «сзывает варварская лира!», он прижал руки к груди, потом медленно поднял их над головой и наконец опустил, как будто положил к нашим ногам драгоценную варварскую лиру.
…Мы вышли вместе. Была полная луна, висевшая высоко в небе, окруженная таинственным кольцом светящегося тумана. Штилевое море было совершенно безмолвно, даже песок не шуршал под ногами. Мы шли молча и уже подходили к пансиону, когда я наконец решился спросить его:
— Борис Николаевич, а какое стихотворение ваше собственное вы любите больше всех?
Твой ясный взгляд: в нем я себя ловлю,
В нем необъемлемое вновь объемлю,
Себя, отображенного, люблю,
Себя, отображенного, приемлю.
Точно крылья ласточки, его руки делали неожиданные, резкие повороты.
Твой ясный взгляд: в нем отражаюсь я,
Исполненный покоя и блаженства,
В огромные просторы бытия,
В огромные просторы совершенства.
Нас соплетает солнечная мощь,
Исполненная солнечными снами:
Вот наши души, как весенний дождь,
Оборвались слезами между нами.
В тишине глухо доносился его негромкий, то приближавшийся, то отдалявшийся голос:
И «Ты» и «я» — перекипевший сон,
Растаявший в невыразимом свете,
Мы встретились за гранями времен,
Счастливые, обласканные дети.
Все три стихотворения — «На что вы, дни», «Скифы», «Твой ясный взгляд» — были прочитаны одним человеком — Андреем Белым, — но каждое звучало по-разному, и каждое — до самого дна — выражало поэта, написавшего их.
А когда мы поднимались по ступенькам нашего пансиона, он сказал мне:
— «Твой ясный взгляд…» — мое любимое. Это я.
13
Так бывает иногда — еще спишь, но уже знаешь, что сейчас проснешься, и вот начинается недолгая, но яростная борьба за сон. Изо всех сил хватаясь за ускользающие образы, пытаешься продлить дыхание сна, и когда приближенье реального мира становится неизбежным, все еще продолжаешь лежать с закрытыми глазами, наново переживая видения сна, ловя оборвавшуюся некрепкую нить легкой потусторонней жизни. Наконец с невыразимой печалью открываешь глаза, и тогда мгновенно все меркнет — видения осыпаются, как иней, сквозь них нахально проступает рисунок давно знакомых обоев, привычные очертания комнаты, и в утреннем сумраке белеет штукатурка гладкого и скучного потолка. «Что мне снилось?» — невольно спрашиваешь себя, но в утлой памяти не сохранилось ни образа, ни краски, и ощущение растерянности на долгие часы овладевает тобой.
В тот день борьба за сон продолжалась особенно долго. Я делал все усилия, напрягал волю, пытался обмануть себя уверениями, что еще сплю, но ничто не помогало, и с отвращением я вынужден был открыть глаза. В душе еще оставался звук сна — ни с чем не сравнимый, высокий, легкий, пронзающий все тело, — но он постепенно слабел, как будто между сознанием и звуком одна за другой закрывались глухие двери.