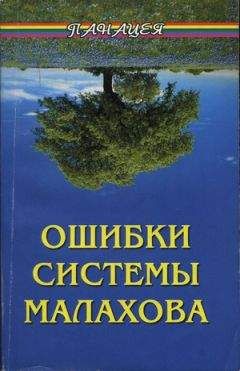Федор Шаляпин - Маска и душа
Россiя мнѣ снится рѣдко, но часто наяву я вспоминаю мою летнюю жизнь въ деревнѣ и прiѣздѣ въ гости московскихъ друзей. Тогда это все казалось такимъ простымъ и естественнымъ. Теперь это представляется мнѣ характернымъ сгусткомъ всего русскаго быта.
Да, признаюсь, была у меня во Владимiрской губернiи хорошая дача. И при ней было триста десятинъ земли. Втроемъ строили мы этотъ деревенскiй мой домъ. Валентинъ Сѣровъ, Константинъ Коровинъ и я. Рисовали, планировали, наблюдали, украшали. Былъ архитекторъ, нѣкiй Мазыринъ, — по дружески мы звали его Анчуткой. А плотникомъ былъ всеобщiй нашъ любимецъ крестьянинъ той же Владимiрской губернiи — Чесноковъ. И домъ же быль выстроенъ! Смѣшной, по моему, несуразный какой то, но уютный, прiятный; а благодаря добросовѣстнымъ лѣсоторговцамъ, срубленъ былъ — точно скованъ изъ сосны, какъ изъ краснаго дерева.
И вотъ, глубокой осенью, получаешь, бывало, телеграмму отъ московскихъ прiятелей: «ѣдемъ, встрѣчай». Встрѣчать надо рано утромъ, когда уходящая ночь еще плотно и таинственно обнимается съ большими соснами. Надо перебраться черезъ рѣчку — мостъ нечаянно сломанъ, и рѣчка еще совершенно чернильная. На томъ берегу рѣчки стоятъ уже и ждутъ наканунѣ заказанные два экипажа съ Емельяномъ и Герасимомъ. Лениво встаешь, неохотно одѣваешься, выходишь на крыльцо, спускаешься къ рѣкѣ, берешь плоскодонку и коломъ отталкиваешься отъ берега… Тарантасъ устланъ пахучимъ сѣномъ. Ѣдешь восемь верстъ на станцiю. Въ сторонѣ отъ дороги стоитъ огромный Феклинъ боръ съ вѣковыми соснами, и такъ уютно, тепло сознавать, что ты сейчасъ не въ этомъ лѣсу, гдѣ холодно и жутко, а въ тарантасѣ, укутанный въ теплое драповое пальто. И ѣдешь ты на милой лошади, которую зовутъ Машкой. Какъ любезно понукаетъ ее Герасимъ.
— Ну, ну, Машка-а! Не подгаживай, не выявляй хромоты.
Машка старалась, и какъ будто легонько ржала въ отвѣть.
И вотъ станцiя. Рано. На вокзалѣ зажжены какiя то лампы керосиновыя; за досчатой тонкой стѣной время отъ времени трещитъ, выстукивая, телеграфъ. Кругомъ еще сизо. На полу лежатъ, опершись на свои котомки, какiе то люди. Кто то бормочетъ что то во снѣ. Кто то потягивается. Время отъ времени кто то скрипитъ дверью, то выходя, то входя. Но вотъ вдругъ та самая дверь, что только что скрипела сонно, начинаетъ скрипѣть веселѣе. Входитъ какой то озабоченный человѣкъ на кривыхъ ногахъ, съ фонаремъ въ рукѣ, и черезъ спяшихъ людей пробирается въ телеграфную комнату, откуда слышится:
— Черезъ 6?
И человѣкъ съ фонаремъ, вбѣгая въ залъ, громко кричитъ:
— Эй, эй, вставай! Идетъ!
Люди начинаютъ шевелиться. Кто встаетъ, кто зѣваетъ, кто кашляетъ, кто шепчетъ: «Господи Iисусе!»… Залъ ожилъ.
Бѣлѣетъ окно. Дѣлаются блѣднѣе и блѣднѣе лица. Лохмотья пассажировъ выступаютъ замѣтнѣе и трезвѣе… Слышенъ глухой далекiй свистокъ… Человѣкъ съ фонаремъ на кривыхъ ногахъ подбѣгаетъ къ колоколу.
— Трымъ, трымъ, трымъ!..
Люди совсѣмъ ожили. Кто то, откашлявшись, напѣвно пробурчалъ: «Яко да за царя всѣхъ подымемъ»…
А тамъ уже разрѣзанъ молочный туманъ расплывчатыми лучами еще не показавшагося солнца, и тускло, какъ всегда передъ солнцемъ, вдали мелькнули огни паровоза.
Ѣдутъ! И прiѣзжаютъ московскiе гости, и среди нихъ старшiй — Савва Ивановичъ Мамонтовъ.
Нигдѣ въ мiрѣ не встрѣчалъ я ни такого Герасима, ни такого бора, ни такого звонаря на станцiи. И вокзала такого нигдѣ въ мiрѣ не видѣлъ, изъ изношенно-занозистаго дерева срубленнаго… При входѣ въ буфетъ странный и нелепый виситъ рукомойникъ… А въ буфетѣ, подъ плетеной сѣткой — колбаса, яйцо въ черненькихъ точкахъ и безсмертныя мухи…
Милая моя, родная Россiя!..
86«На чужбинѣ» — написалъ я въ заголовкѣ этихъ заключительныхъ главъ моей книги. Написалъ и подумалъ: какая же это чужбина? Вѣдь все, чѣмъ духовно живетъ западный мiръ, мнѣ, и какъ артисту, и какъ русскому, безконечно близко и дорого. Всѣ мы пили изъ этого великаго источника творчества и красоты. Я люблю русскую музыку, и мою горячую любовь на этихъ страницахъ высказывалъ. Но развѣ этимъ я хотѣлъ сказать, что западная музыка хуже русской? Вещи могутъ быть по различному прекрасны. Если въ западной музыкѣ, на мой взглядъ, отсутствуетъ русская сложность и крепкая интимная суковатость, то въ западной музыкѣ есть другiя, не менѣе высокiя достоинства. Вѣдь по различному прекрасны и творенiя западной музыки. Есть мiръ Моцарта и есть мiръ Вагнера. Какимъ объективнымъ инструментомъ можно точно измѣрить сравнительное величiе каждаго изъ нихъ? А чувствомъ всякiй можетъ предпочтительно тяготѣть къ Моцарту или Вагнеру. Интимные мотивы такога предпочтенiя могутъ быть различные, но самый наивный изъ нихъ, однако, субъективно убѣдителенъ.
Лично я опредѣлилъ бы мое воспрiятiе Вагнера и Моцарта въ такой, напримѣръ, нѣсколько парадоксальной формѣ. Я воображаю себя юнымъ энтузiастомъ музыки съ альбомомъ автографовъ любимыхъ музыкантовъ. Я готовъ душу отдать за автографъ Вагнера или Моцарта. Я набираюсь храбрости и рѣшаю пойти за автографомъ къ тому и другому.
Я разыскалъ домъ Вагнера. Это огромное зданiе изъ мощныхъ кубовъ желѣзнаго гранита. Монументальный входъ. Тяжелыя дубовыя двери съ суровой рѣзьбой. Я робко стучусь. Долгое молчанiе. Наконецъ, дверь медленно раскрывается, и на порогѣ показывается мажордомъ въ пышной ливреѣ, высокомерно окидываюшдй меня холодными серыми глазами изъ-подъ густыхъ бровей:
— Was wollen Sie?
— Видѣть г. Вагнера.
Мажордомъ уходитъ. Я уже трепещу отъ страха. Прогонятъ. Но нътъ — меня просятъ войти. Въ сумрачномъ вестибюлѣ изъ сѣраго мрамора величественно и холодно. На пьедесталахъ, какъ скелеты, рыцарскiе доспехи. Входъ во внутреннюю дверь по обѣимъ сторонамъ стерегутъ два каменныхъ кентавра. Вхожу въ кабинетъ г. Вагнера. Я подавленъ его просторами и высотой. Статуи боговъ и рыцарей. Я кажусь себѣ такимъ маленькимъ. Я чувствую, что свершилъ великую дерзость, явившись сюда. Выходитъ Вагнеръ. Какiе глаза, какой лобъ! Жестомъ указываетъ мнѣ на кресло, похожее на тронъ.
— Was wollen Sie?
Я трепетно, почти со слезами на глазахъ, говорю:
— Вотъ у меня альбомчикъ… Автографы.
Вагнеръ улыбается, какъ лучъ черезъ тучу, беретъ альбомъ и ставитъ свое имя.
Онъ спрашиваетъ меня, кто я.
— Музыкантъ.
Онъ становится участливымъ, угощаетъ меня: важный слуга вносить кофе. Вагнеръ говорить мнѣ о музыкѣ вещи, которыхъ я никогда не забуду… Но когда за мною тяжко закрылась монументальная дубовая дверь, и я увидѣлъ небо и проходящихъ мимо простыхъ людей, мнѣ почему то стало радостно — точно съ души упала тяжесть, меня давившая…