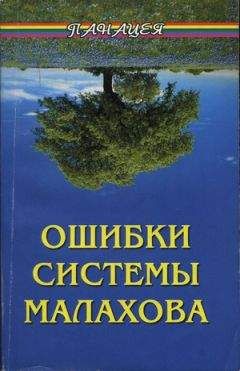Федор Шаляпин - Маска и душа
Помню, какъ онъ былъ взволнованъ и блѣденъ въ день 9 января 1905 года, когда, ведомые Гапономъ, простые русскiе люди пошли къ Зимнему Дворцу на колѣняхъ просить Царя о свободѣ и въ отвѣтъ на простодушную мольбу получили отъ правительства свинцовыя пули въ грудь:
— Невинныхъ людей убиваютъ, негодяи!
И хотя въ этоть самый вечеръ я пѣлъ въ Дворянскомъ Собранiи, одна у меня была тогда съ Горькимъ правда.
Понятно, съ какой радостной гордостью я слушалъ отъ Горькаго ко мнѣ обращенный слова:
— Что бы мнѣ про тебя ни говорили плохого, Федоръ, я никогда не повѣрю. Не вѣрь и ты, если тебѣ скажутъ что нибудь плохое обо мнѣ.
И еще помню:
— Какъ бы дороги наши когда нибудь ни разошлись, я тебя буду дюбить. Даже твоего Сусанина любить не перестану.
И, дѣйствительно, любовь Горькаго, его преданносѣ мнѣ, его довѣрiе я много разъ въ жизни испыталъ. Крѣпко держалъ свое слово Горькiй.
Когда я во время большевистской реводюцiи, совѣстясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся обстановкой жизни и работы, послѣ долгой внутренней борьбы рѣшилъ, въ концѣ концовъ, перебраться за рубежъ, я со стороны Горькаго враждебнаго отношенiя къ моему решенiю не замѣтилъ…
Я уже прожилъ порядочное время заграницей, какъ однажды получилъ письмо оть Горькаго съ предложенiемъ вернуться въ Совѣтскiй союзъ. Вспоминая, какъ мнѣ было тамъ тяжело жить и работать, и не понимая, почему изменилось мненiе Алексѣя Максимовича, я ему отвѣтилъ, что ѣхать въ Россiю мнѣ сейчасъ не хотѣлось бы. И выяснилъ откровенно причины. Писалъ я объ этомъ Горькому на Капри. Конечно, Алексѣй Максимовичъ въ это время уже съѣздилъ въ Россiю и, вѣроятно, усмотрѣлъ для меня новую, опредѣленную возможность тамъ жить и работать. Но я въ эту возможность, каюсь, не повѣрилъ. Такъ временно вопросъ о моемъ отношенiи къ возвращенiю въ Россiю повисъ въ воздухѣ. Горькiй къ нему не возвращался. Однако, позже, когда мнѣ случилось быть въ Риме (я тамъ пѣлъ спектакли), я встретился съ Горькимъ лично. Все еще дружески, Алексѣй Максимовичъ мнѣ снова тогда сказалъ, что необходимо, чтобы я ѣхалъ на родину. Я снова и болѣе рѣшительно отказался, сказавъ, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею вѣры въ возможность для меня тамъ жить и работать, какъ я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого нибудь изъ правителей или вождей въ отдѣльности, я боюсь, такъ сказать, всего уклада отношенiй, боюсь «аппарата»… Самыя лучшiя намѣренiя въ отношенiи меня любого изъ вождей могутъ остаться праздными. Въ одинъ прекрасный день, какое нибудь собранiе, какая нибудь коллегiя могутъ уничтожить все, что обещано. Я, напримѣръ, захочу поехать заграницу, а меня оставятъ, заставятъ, н нишкни — никуда не выпустятъ. А тамъ ищи виноватаго, кто подковалъ зайца. Одинъ скажетъ, что это отъ него не зависитъ, другой скажетъ: «вышелъ новый декретъ», а тотъ, кто обѣщалъ и кому повѣрилъ, разведетъ руками и скажетъ:
— Батюшка, это же революцiя, пожаръ? Какъ вы можете претендовать на меня?..
Алексей Максимовичу правда, ѣздитъ туда и обратно, но онъ же дѣйствующее лицо революцiи. Онъ вождь. А я? Я не коммунистъ, не меньшевикъ, не соцiалистъ-революцiонеръ, не монархистъ и не кадетъ, и вотъ, когда такъ отвѣтишь на вопросы, кто ты? — тебѣ и скажутъ:
— А вотъ потому именно, что ты ни то, ни се, а чортъ знаетъ что, то и сиди, сукинъ сынъ, на Прѣснѣ… А по разбойному характеру моему я очень люблю быть свободнымъ, и никакихъ приказанiй — ни царскихъ, ни комиссарскихъ — не переношу.
Я почувствовалъ, что Алексѣю Максимовичу мой отказъ не очень понравился. И когда я потомъ, вынужденный къ тому безцеремоннымъ отношенiемъ совѣтской власти къ моимъ законнымъ правамъ даже заграницей, сдѣлалъ изъ моего рѣшенiя не возвращаться въ Россiю всѣ логическiе выводы и «дерзнулъ» эти мои права защитить, то по нашей дружбѣ прошла глубокая трещина. Среди немногихъ потеръ и нѣсколькихъ разрывовъ послѣднихъ лѣтъ, не скрою, и съ волненiемъ это говорю — потеря Горькаго для меня одна изъ самыхъ тяжелыхъ и болѣзненныхъ.
Я думаю, что чуткiй и умный Горькiй могъ бы при желанiи мѣнѣе пристрастно понять мои побуждения въ этомъ вопросе. Я, съ своей стороны, никакъ не могу предположить, что этотъ человѣкъ могъ бы дѣйствовать подъ влiянiемъ низкихъ побужденiй. И все, что въ послѣднее время случалось съ моимъ милымъ другомъ, я думаю, имѣетъ какое то неведомое ни мнѣ, ни другимъ объясненiе, соотвѣтствующее его личности и его характеру.
Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдругъ стали различно понимать ц оцѣнивать происходящее въ Россiи. Я думаю, что въ жизни, какъ въ искусствѣ, двухъ правдъ не бываетъ — есть только одна правда. Кто этой правдой обладаетъ, я не смею рѣшить. Можетъ быть, я, можетъ быть, Алексѣй Максимовичъ. Во всякомъ случае, на общей намъ правдѣ прежнихъ лѣтъ мы уже не сходимся.
Я помню, напримѣръ, съ какимъ прiятнымъ трепетомъ я однажды слушалъ, какъ Алексѣй Максимовичъ восхищался И.Д.Сытинымъ.
— Вотъ это человѣкъ! — говорилъ онъ съ сiяющими глазами. — Подумать только, простой мужикъ, а какая сметка, какой умъ, какая энергiя и куда метнулъ!
Дѣйствительно, съ чего началъ и куда метнулъ. И ведь всѣ эти русскiе мужики, Алексѣевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины — какiе все это козыри въ игре нацiи. Ну, а теперь это — кулаки, вредный элементъ, подлежащiй безпощадному искорененiю!.. А я никакъ не могу отказаться отъ восхищенiя передъ ихъ талантами и культурными заслугами. И какъ обидно мнѣ знать теперь, что они считаются врагами народа, которыхъ надо бить, и что эту мысль, оказывается, разделяетъ мой первый другъ Горькiй…
Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человѣка въ его жизни и трудѣ — величайшее благо. Что не не надо людямъ навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда то любили съ Алексѣемъ Максимовичем Горькимъ…
V. На чужбинѣ
Въ мрачные дни моей петербургской жизни подъ большевиками мнѣ часто снились сны о чужихъ краяхъ, куда тянулась моя душа. Я тосковалъ о свободной и независимой жизни.
Я получилъ ее. Но часто, часто мои мысли несутся назадъ, въ прошлое, къ моей милой родинѣ. Не жалѣю я ни денегъ, конфискованныхъ у меня въ нацiонализированныхъ банкахъ, ни о домахъ въ столицахъ, ни о землѣ въ деревнѣ. Не тоскую я особенно о блестящихъ нашихъ столицахъ, ни даже о дорогихъ моему сердцу русскихъ театрахъ. Если, какъ русскiй гражданинъ, я вмѣстѣ со всѣми печалюсь о временной разрухѣ нашей великой страны, то какъ человѣкъ, въ области личной и интимной, я грущу по временамъ о русскомъ пейзажѣ, о русской веснѣ, о русскомъ снѣгѣ, о русскомъ озерѣ и лѣсѣ русскомъ. Грущу я иногда о простомъ русскомъ мужикѣ, томъ самомъ, о которомъ наши утонченные люди говорятъ столько плохого, что онъ и жаденъ, и грубъ, и невоспитанъ, да еще и воръ. Грущу о неповторимомъ тонѣ часто нелѣпаго уклада нашихъ Суконныхъ Слободъ, о которыхъ я сказалъ не мало жестокой правды, но гдѣ все же между трущобъ растетъ сирень, цвѣтутъ яблони и мальчишки гоняютъ голубей…