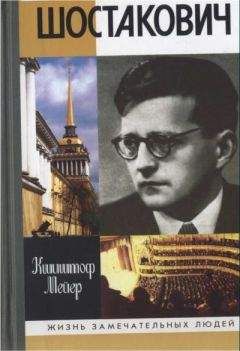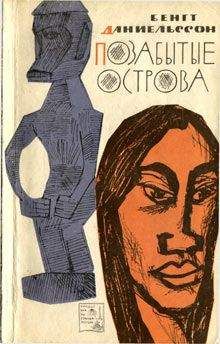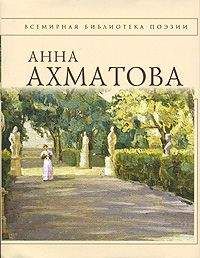Бенгт Даниельссон - Гоген в Полинезии
остается вахиной Гогена и нелепо обвинять ее в краже у самой себя, ее присудили к
штрафу в 15 франков и семи дням тюремного заключения. Один сведущий в законах
сосед, который осуждал Гогена и его поступки, помог ей обжаловать приговор, и Пау’уру
оправдали184. Возможно, тут сыграло роль то, что с 1898 года правосудием на Таити
руководил бывший друг Гогена, прокурор Эдуард Шарлье, хорошо знавший, как много
Пау’ура сделала для Коке.
Взять кого-нибудь взамен Пау’уры Гогену было не по карману. Даже для того, чтобы
иногда навещать танцевальную площадку и «мясной рынок», где он так славно
повеселился в свои первые месяцы на Таити в 1891 году, требовались ноги поздоровее и
бумажник потолще. Когда одиночество делалось совсем уже невыносимым, оставалось
только пойти выпить кружку пива или рюмку абсента в одном из семи трактиров города,
где основными посетителями были моряки, солдаты, приказчики и туземцы. Судя по
многочисленным свидетельствам, Гоген в такие вечера основательно напивался и по
малейшему поводу и без повода затевал ссору, а то и драку.
Когда же он в конце концов в нерабочий день вспомнил о кистях и палитре, то лишь
затем, чтобы, заработав немного денег и рассчитавшись с самыми нетерпеливыми
заимодавцами, обеспечить себе несколько более спокойную жизнь. Один из кредиторов,
Амбруаз Милло, сам заказал ему картину. Мсье Милло заведовал одной из двух городских
аптек и, очевидно, решил, что он просто обязан поддержать своего лучшего клиента, так
как предложил цену, намного превосходящую долг Гогена. Правда, зато он попросил
написать «понятную и доступную картину».
Видно, Гоген и впрямь старался угодить аптекарю, потому что вскоре принес ему
«Белую лошадь», которая считается одной из его самых доступных и простых картин. Тем
не менее мсье Милло негодующе воскликнул:
- Но ведь лошадь зеленая! Таких лошадей не бывает!
С большим достоинством и самообладанием Гоген ответил:
- Любезный мсье Милло, вы никогда не замечали, каким зеленым все кажется, когда
вы вечером удобно сидите с полузакрытыми глазами на веранде в своей качалке и
любуетесь игрой света в природе?
Милло едко возразил, что коли уж он тратит на картину несколько сот франков, то
желает получить за эти деньги полотно, которым можно любоваться при дневном свете, не
садясь в кресло и не щурясь. Сделка не состоялась, и со временем картина попала в
парижскую мастерскую Даниеля де Монфреда, где скопилось столько непроданных
полотен Гогена185. Там она оставалась до 1927 года, когда Лувр купил ее у Монфреда. Как
известно, теперь «Белая лошадь» висит на почетном месте в гогеновском зале музея.
На столь же видном месте в лондонской галерее Тейт давно экспонируется «Фаа
ихеихе», вторая из двух или трех картин, созданных Гогеном в эту пору, когда он опять,
как во время службы на парижской бирже, мог заниматься живописью лишь в нерабочие
дни. (Связь между этим полотном и «Белой лошадью» подчеркивается тем, что мы видим
на них одного и того же всадника.) Сходство с фреской и светлые, радостные краски дали
повод считать эту вещь, так сказать, жизнеутверждающим противовесом трагической
монументальной картине «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Название (вернее
писать Фа’аи ей е) подтверждает такое толкование; это широко употребительный
каузативный глагол, означающий «украшать, наряжать, возвеличивать». Разумеется, на
Таити найти покупателя на это полотно оказалось так же невозможно, как и на «Белую
лошадь».
Выбор мотива и весь характер картины позволяют заключить, что Гоген в это время
пришел к оптимистическому выводу: все-таки стоит жить на свете. У него в самом деле
были веские причины смотреть в будущее более уверенно, чем в начале года. Шоде
превзошел сам себя и один за другим прислал два перевода на общую сумму тысяча
триста франков. Тут и Даниель взял реванш за неудавшуюся в прошлом году попытку
организовать закупочную артель и продал частным лицам картин на 65 франков. Благодаря
неожиданным поступлениям Гоген в августе 1898 года смог вернуть кассе первые
четыреста франков, а в сентябре снова лечь в больницу186. Уже через три недели он
почувствовал себя настолько лучше, что стал надеяться на полное излечение. Конечно, это
была тщетная надежда. Если внимательно изучить долгую историю болезни Гогена, видно,
что мучительные приступы и временные улучшения равномерно сменяли друг друга через
шесть-во-семь месяцев, и ни тщательный уход, ни полное пренебрежение здоровьем не
влияли серьезно на ход болезни, которая развивалась по своим внутренним законам.
Вот и теперь, в полном соответствии с этой дьявольской схемой, не успел он решить,
что бросит службу, как в незалеченной ноге начались дикие боли, заглушаемые только
морфием, да и то ненадолго. В декабре 1898 года положение было таким же отчаянным,
как год назад, и Гоген с тоской спрашивал себя и Даниеля: «Разве не в сто раз лучше
умереть, если нет надежды на выздоровление? Ты укорил меня за безумный поступок
(попытка самоубийства), считал это недостойным Гогена. Но если бы ты знал, что
делается у меня на душе после трех лет мучений! Если я буду лишен живописи -
единственного, что у меня есть в жизни теперь, когда жена и дети мне безразличны, - на
сердце останется одна лишь пустота». Здесь же Гоген, как всегда неожиданно и нелогично,
сам отвечал на свой вопрос: «Итак, я осужден жить, хотя у меня нет больше для этого
никаких духовных оснований». В январе 1899 года от Даниеля поступила еще тысяча
франков; это позволило Гогену расстаться с нудной службой и уехать в свой дом в
Пунаауиа.
К его безграничному удивлению - и, конечно, большой радости, - Пау’ура, как ни в
чем не бывало, тотчас пришла и деловито принялась вместе с ним убирать и приводить в
порядок дом, основательно пострадавший от крыс и термитов. И ведь, в сущности, в их
отношениях ничего не изменилось; покидая Папеэте, Пау’ура уезжала не от Коке, а от
городской жизни. Она была уже на пятом месяце, и тут пришел ее черед удивляться: Гоген
искренне радовался тому, что вскоре опять станет отцом. «Это счастливое событие для
меня; может быть, ребенок возвратит меня к жизни, сейчас она мне кажется