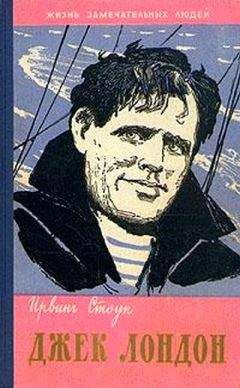Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
Что еще я запомнил, помимо записанного?
Помню, что в связи со своим психическим состоянием в 30-е годы Пастернак подробно рассказал нам то, что теперь все знают, а тогда мы слышали впервые, — о телефонном звонке Сталина ему по поводу Мандельштама. Покаюсь, что тогда я воспринял это совсем не так, как воспринимаю теперь. На меня произвел впечатление факт возможного, но несостоявшегося разговора "о жизни и смерти" между Пастернаком и Сталиным, чем повод к разговору, Мандельштам и его судьба, это казалось менее значительным. Я уже знал опубликованную поэзию и прозу Мандельштама, но мне было восемнадцать лет, и понадобилось еще пожить, чтобы на вершине моих представлений о новой русской поэзии навсегда укрепились Мандельштам и Ахматова, отодвинув милого московского гения чуть в сторону.
Помню момент в разговоре, когда Борис Леонидович, вспоминая о своих переживаниях в Париже в 35-м году, сказал: "Я чувствовал себя как тот, знаете, спартанский мальчик, который украл лисицу, спрятал ее под хитоном и на допросе молчал, пока лиса выедала ему внутренности". "Знаете" было, конечно, употреблено как междометие, но я, заслушавшись, неожиданно громко крикнул: "Знаю!" Пастернак весело взглянул на меня, и я сконфузился на манер какого-нибудь подростка у Достоевского.
Сельвинский
Отогретые Пастернаком, мы опять застыли по дороге на станцию и в электричке. На Киевском вокзале поели в ресторане горячей селянки. Теперь надо было покурить для полного кайфа. В табачном киоске продавали прежде невиданные желто-зеленые пачки половинного, на десять сигарет, размера — "Ароматные". Закурили "Ароматные" и подумали, что это как заграничные сигареты, которых нам до того куривать не приходилось. И тут за стеклом соседнего газетного киоска увидели большую обложку журнала с абстрактным изображением! Абстракционизм представлялся пределом творческой свободы. Неужели это уже и у нас возможно — ароматные сигареты, абстрактные картины? При ближайшем рассмотрении картина оказалась все же предметной. Просто мой еще не натренированный на очень условную графику глаз не сразу разглядел в этой сине-белой композиции изображение лыжника. То был самый первый номер журнала "Польша", издававшегося на русском для советских читателей.
Сигареты, отдающие дешевой парфюмерией, и скучный журнал я было принял за зарю свободы, но ненадолго.
На следующий день мы пошли в Лаврушинский переулок к Сельвинскому. Крепкий, коренастый Илья Львович нас охотно впустил и был очевидно доволен паломничеством молодежи. Попросил нас почитать стихи. Потом долго и охотно говорил. Его заинтересовала наша встреча с Пастернаком, о котором он выразился невнятно в том смысле, что Пастернак отгородился от жизни и ничего не понимает в нашей советской действительности. Вот он сам не только не отгородился, но чувствует прямо-таки физическую потребность быть в гуще жизни. Даже иногда специально в самый час пик спускается в метро, чтобы его давило и несло людским потоком. Мы затеяли наш обычный тогдашний разговор "Как вы относитесь к…". Помню только, что он сказал про Асеева: "До сих по разделяет мир на красных и белых" (в том смысле, что Асеев, конечно "наш", но цветущей сложности победившего социализма не понимает) И с неожиданной искренней злобой про Твардовского: "Подкулачник. Отец у него был кулак".
Почему мы пошли к Сельвинскому? (Сейчас, когда я пишу это, Сельвинского почти не вспоминают, даже в щедрых перечислениях поэтических талантов XX века я его имени не встречал.) А для нас золотым веком были "20-е годы". Не "серебряный век" (само это понятие мы узнали позже), но при всем нашем знании и любви к символистам, "декадентам" и, конечно, футуристам, именно 20-е годы были для нас неотразимо привлекательны. И, как это бывает, когда любят не отдельных ее представителей, а самое эпоху, интересными и значительными представлялись даже те, кто катастрофически мельчал в большой перспективе. Для меня же с детства поэзия 20-х годов, а заодно и в целом 20-е годы представлялись в особо романтическом ореоле, поскольку именно там были источники постоянного маминого, не всегда точного, но всегда восторженного, цитирования — из Тихонова, Инбер, Антокольского, Багрицкого. Но особо восхищалась она Сельвинским. Особо ценила его затрепанные книжечки. У меня сохранилась только "Улялаевщина", второе издание, 1930 года. Самую интересную, "Записки поэта", с якобы кубистическим портретом выдуманного поэта Евгения Нея на бумажной обложке, я продал в минуту жизни трудную вместе с другими раритетами нью-йоркскому коллекционеру русского авангарда, букинисту и литератору-дилетанту Артуру Коэну. Внутри "Записок поэта" была "книжка в книжке" — стихи Евгения Нея. Спрятавшись за выдуманного богемного поэта, Сельвинский опубликовал серию авангардистских стихотворений. А еще в "книжке в книжке" была вклейка, которую можно было развернуть, она изображала дверь уборной в ресторане Дома Герцена, исписанную эпиграммами: "Маяковский, довольно спеси! Вас выдал химический фокус — от чистого золота песен на зубах не осядет окись" и т. п. К эпиграмме на Маяковского было примечание: "Основатель футуризма начинал заживо бронзоветь, этот процесс начался у него с зубов". Вот я и сейчас помню эти тексты, так же как и строки из "Улялаевщины" и стихов Евгения Нея. Нет, там на самом деле было много талантливой выдумки. Еще мама ценила книжечку "Ранний Сельвинский", довольно наглое издание. Такой важной литературной фигурой чувствовал себя Сельвинский в 20-е годы и так все с его статусом соглашались, что он составил сборник своих ювенильных стишков и его издали. Но в стихах 20-х годов у него интересно и весело открываются какие-то совсем нетронутые жилы русской версификации. По-настоящему то, что застолбил тогда Сельвинский, — "тактовый" стих, новые способы рифмовки освоил и разработал только Бродский полвека спустя. Еще в чем они схожи, это в склонности театрализовать стих: прятаться за экзотическими масками, выдумывать экзотические сюжеты. Потенциально Сельвинский мог стать чем-то вроде Брехта, но не стал ничем. Он думал, что его сдавливает и несет могучий поток истории, а его, как и многих других, просто придавили и растерли кирзовым сапогом. То, что мы увидели, была плоская бледная тень амбициозного авангардиста 20-х годов.
Он был учителем Ахмадулиной в каком-то литобъединении. Ахмадулина тихо похвасталась: "Сельвинский прислал мне письмо. Он написал: "Я обвиняю Вас в гениальности"". Не отсюда ли высокопарность, которая так захлестнула с годами поэтессу. Кстати, о женских стихах Сельвинский нам сказал, как бы экспромтом, но очевидно довольный случаем процитировать давно придуманный афоризм: "Есть женские стихи, написанные кровью сердца, а есть написанные менструальной кровью". Выйдя из лаврушинского дома, мы сошлись во мнении, что Сельвинский неумен.